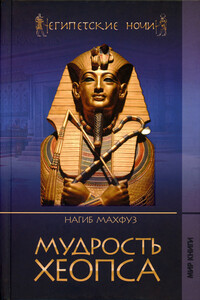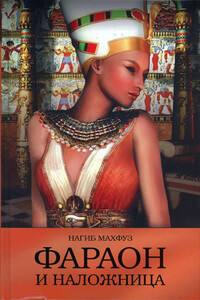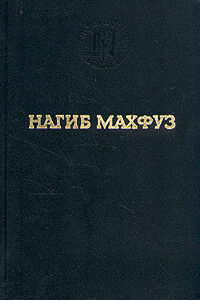Все, кто был в бане, прикрывшись чем попало, высыпали на улицу. Некоторые с испугу повыскакивали совсем голые. Женщины нашли приют в вестибюле большого дома напротив бани. В мыльной оставалась только одна старуха: намазав голову хной и подстелив под себя лонг, она прикорнула в уголке и, видимо, все еще дремала.
Бэгум совсем растерялась — не знала, что делать. Она выбежала из мыльной в предбанник, оттуда, с треском хлопнув дверью, влетела назад. Малыш ее играл в песочек где-то на улице или около котельной — о нем она не беспокоилась. Но вот муж… Всех солдат распустили, а о нем ни слуху ни духу. Люди говорят: война. Какая же это война? Ведь воевать должны солдаты, разве «еропланы» тоже могут?.. А муж ее — какой из него солдат? С этой войны живые-то хоть возвращаются или нет?..
На дальнейшие размышления у нее ума не хватало, и она вообще перестала соображать. Страх овладел Бэгум настолько, что ей представилось, будто она осталась в бане одна-одинешенька, будто сырой, насквозь пропитавшийся влагой потолок мыльной сейчас рухнет ей на голову, проломит ветхие плиты пола и навсегда похоронит ее в горячем пепле «кошачьих ходов». Но, когда водоноска в последний раз вбежала в банный зал, она вдруг заметила старушонку. У нее отлегло от сердца, голова перестала кружиться, она несколько раз вздохнула полной грудью, неторопливо подошла к старухе, присела рядом и позвала:
— Ханум… Ханум!
Бабка крепко спала. «Надо же, совсем не боится! Не то что другие старухи…» — подумала Бэгум и позвала погромче:
— Ханум… Матушка! Сестрица!..
Старуха заворочалась, поправила бумагу, которой была обернута вымазанная хной голова, и, позевывая, произнесла:
— Что говоришь?.. Голубушка, я ведь сказала — не надо меня мыть!
— Матушка, да я не банщица! Я за тобой пришла — вставай, побежим вместе.
— Побежим? Куда бежать?.. Спятила ты, что ли?
Снова в небе над городом послышалось несколько глухих хлопков, и отзвук от них докатился наконец и до выставленных стекол в куполе бани, до ушей Бэгум и, может быть, даже до тугой на ухо старухи.
— Ну вот, слышишь? Бомбы бросают… Говорят, теперь такое начнется — конец света! Как при всемирном потопе… Да ты что, проспала все?! Женщины нагишом на улицу повыскакивали!
Старуха, которая приподнялась было на локте, опять улеглась на скамью:
— Э, дочка, ты про этот шум да звон говоришь? Это ничего не значит. Мулов, небось, разгружают возле котельной… А они бьют копытами оземь…
— Да нет, матушка! Я же выходила на улицу, видела ихние еропланы. Они бросали бомбы — весь народ и разбежался…
— Ох, доченька, молодая ты, пугливая больно… Может, ты и правду сказала… Ну а я все же постарше тебя, вдвое больше рубах износила… Когда убиенный шах[35] преставился, ну, когда убили его, тоже говорили, что конец света пришел, но ничего такого не случилось.
Бэгум совсем успокоилась, она вольготно улеглась на скамье недалеко от старухи, а та продолжала свой рассказ:
— Да, доченька, тогда тоже говорили, мол, станут из пушек палить, пустят в ход винтовки, резня начнется… Ну, люди лавки позакрывали, поразбежались. А куда разбежались-то? По домам по своим!.. Ха-ха! Будто в доме их не тронут! Но в конце концов ничего страшного не случилось. Отец мой, упокой господи его душу, вернулся вечером домой и рассказывал: посадили шаха в коляску и повезли, как всегда, с караулом и есаулами, во дворец. Покойный генерал-губернатор сел рядом с шахом в коляску, просунул сзади руку и своей рукой ему усы покручивает, мертвый шах головой качает, а он ему будто в ответ: «Да, ваше величество, слушаюсь, ваше величество». Народ смотрит, думает, что шах живой, ну, все и успокоились.
Так Бэгум искала утешения в беседе со старухой, в то время как люди в панике бежали по улицам и базарам, а солдаты бесцельно бродили по городу, словно бараны. Безумный страх, подобно кошмарному видению, опустился на город. А под куполами базаров и бань все еще слышались отзвуки рвущихся снарядов.
Такова была готовность иранского народа перед лицом «решающей битвы», о которой вот уже месяц трубили газеты. Пропаганда — и жизнь.