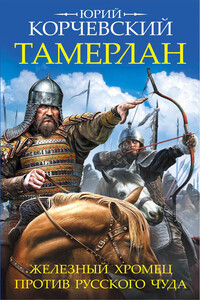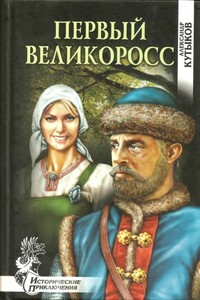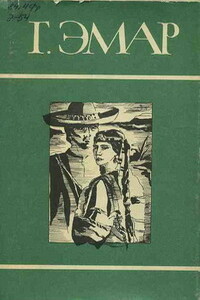— Я бывал на Истре. Тамошние гипербореи тоже знают многие языки Ойкумены... — Грек всматривался в непроницаемые лица спутников Карла, ничем не выдававшие непонимания разговора; готы вели себя так, словно инициатива момента принадлежит им. Он продолжил: — Сношение с цивилизацией, похоже, идёт на пользу варварам... Русые племена Тавра, кои знают языки достойных народов, от сношений с нами имеют выгоду свою вполне... — Староста предосудительно сощурился. — Для чего было умерщвлять своих людей и наших? Лишь только для того, чтобы после всё равно усесться за переговоры и блеснуть на них запоздало своим умом? Большая хвала отнеслась бы к вам, если бы вы призвали нас для беседы ещё с той горы, ещё до вхождения в город... Понятно, армия ваша сильна. Мы платим всем армиям Понта. И царю скифскому Рискупориду — в первую голову, — грек, глядя на внимающего Карла, даже не мигал. — Вы своей глупостью нас разорили! Но мы заплатим и вам, и вы, как и все, при следующем своём приходе заискивающе нам поклонитесь. Найдутся и у вас позже понятливые люди, которые уберут негнущихся легатов и приведут в надежде на щедрую плату к нам своё послушное войско.
— Праху вашему, воспарившему с ветром ввысь, мы поклонимся! — прошипел что-то понявший Карл; грек приподнял подбородок и склонен был рассмеяться.
— Вы постройте и нарядите — тогда мы вам поклонимся! — Грек вдруг превратился в непреложного судью.
Городские делегаты — все, как один, — продемонстрировали задумчивость, печаль и сожаление о приходе к ним жалких тупиц.
Готы, почувствовав интонацию последней фразы и заметив презрительное отношение к себе, замялись и разом посмотрели на Карла, тем самым объявив об отсутствии у него помощников в сих переговорах, — зоркие горожане ехидно ухмыльнулись.
Карл, конечно, был одинок. Он мог тотчас прервать неудобный для себя диалог, но прекрасно понимал, что через немногое время, даже достигнув победы, лишь малая кучка его друзей и братьев пошлёт небу торжествующий клич на руинах вовсе ненужного им города, на краю, где начинается иной Свет. А если проигрыш... Разгром, позор, крушение начинаний, радостные псы над мёртвыми лицами единоплеменников, бездыханный Сарос... А если его, Карла, собственный мир перестанет сиять разными чудесами...
— Где в ваш закатный Гипанис вливаются чистейшие, цвета утренней росы, ручьи нашей земли, жил в норе барсук. На его морде сам питатель всех тварей сотворил извечную улыбку. Пуглив был тот барсук, умён, учен, осмотрителен — и оттого тучен зимой и летом...
Увидел он хромавшего на одну ногу волка, у которого и бок подран, и око закрыто. Смеётся и учит жирный зверь пса лесного: «Что ж ты тощ и вечно несчастен? Рой ямку и лежи в ней, бока расти — эдакие вот, как у меня. Я — создание добродушное, плохого даже волку не присоветую!»
Отвечает задумавшийся над словами благополучной твари волк: «Единородные знакомцы-волки, да и весь лесной шумный мир, станут потешаться надо мной, лежебокою, знаться со мной не захотят».
«А какая тебе в том печаль? — вопрошал из норы всегда улыбающийся барсук. — Ведь и тощ ты оттого, что добыча твоя — юркая, на месте не задерживающаяся, которая по нраву только твоей серой родне. Из-за добычи той тебя и тяпнули за бок, а когда ты бежал от сородичей, озлобленной мордой ткнулся в прутья острые — вот и глаз твой закрылся!.. Копай нору! Пока копаешь, корешки всякие открываются — ты их кушай, и никто у тебя сей еды не отымет. И чем длинней твоя нора, тем больше тех корешков. Ах, если б ты знал, какой мясистый червь под землёй!.. Но главное — ты всегда сыт, сокрыт, построения и весь смысл твоей жизни — велики! Всяк увидит твою работу, и всяк скажет, узнав по трудам твоим, что здесь живёшь ты. Но никто не узнает, где ты рыскал день назад и год назад. Ведь ничего в твоей нынешней и прошлой жизни путного нет!»
Волчище думал, что во всём справедлив барсук пугливый и правильный, норы не покидающий, но что-то не по себе было ему от слов тучного соседа по большому, общему лесу. Неуютно серому от постижения науки барсучьей, от больного, сохнущего взлеска над склоном, изрытом норами.