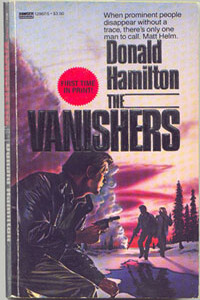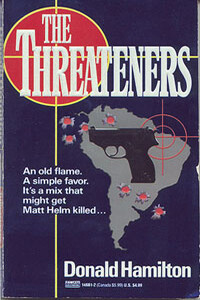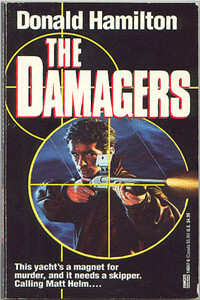В центральном гастрономе, где они условились встретиться, Ольшевский очутился раньше Колкова. Став в самую длинную очередь, начал расспрашивать стоявшую перед ним старушку, как попасть на улицу Кухаренко (она была по соседству с нужной ему улицей).
— Як выйдешь, сынок, повернешь наливо, дойдэш до першого проулка, потим наливо, мынуешь два будынка, буде справа прохидный двир. Через двир выйдешь на Буденовку, а дали...
— Маркивна, — перебила старуху стоявшая рядом женщина, — Буденовка уся розрыта, там грязюка, не пройты, не пройихаты...
Ольшевского больше ничего не интересовало, но он дослушал, поблагодарил и, дождавшись Колкова, подал ему предупреждающий об опасности знак. Потом выскользнул из магазина через двор, юркнул в переулок и вскоре очутился на улице Буденного. Тут он вооружился обрезком водопроводной трубы, выбрал у глухого забора за строительной будкой местечко, где должны были пройти Колков и человек в хромовых сапогах, и стал ждать. Минут через десять случилось то, о чем Николай Николаевич рассказал Бережному.
Возбужденные и запыхавшиеся Колков с Ольшевским добежали, так никого и не встретив, до нужной им улицы и уже не торопясь отыскали дом № 37, вошли через калитку в садик и постучали в дверь. Дождь опять сбивал с вишен листву и барабанил по стеклам двух небольших окон.
— Хто там? — спросил грудной женский голос.
— Откройте, мы от Георгия Сергеевича. В прошлом году, если помните, у вас проживал.
Щелкнула задвижка, отворилась дверь, и на порог вышла статная чернобровая женщина лет тридцати. Ее карие глаза смотрели настороженно.
— Чого це Жора надумав мене згадаты? Дружков посылае, чи що? Ох и дождюка! — И она посмотрела на небо.
— Не, Анна Терентьевна, гостинца вам прислал. Велел кланяться! А если заночевать пустите, в обиде не останетесь. Вот от него, возьмите! — и Колков протянул увесистый сверток.
Женщина нерешительно приняла сверток, еще раз окинула их оценивающим взглядом, остановилась на высокой фигуре Ольшевского, который улыбался во весь рот и с восхищением на нее смотрел, рассмеялась, отступила на шаг:
— Якы ж вы мокрисинькы. И сама не знаю, що з вамы, хлопци, робыты?
— А ничего! — Ольшевский весело вошел в сени.
— Ну, добре, заходьтэ. Тильке нэ булуваты!
— Ни, ни, красавица! — закрывая за собой дверь, облегченно произнес Колков и стал стягивать с себя мокрый плащ. — Наследим мы у вас.
— Ничего!
Умывшись, сели за стол, а через час уже распевали втроем песни.
Околов не ошибся, когда давал Анне Терентьевне характеристику: «Любит выпить, погулять, не прочь побаловать с мужчиной. Настроена антисоветски (муж осужден и сидит в лагерях), но ухо с ней надо держать востро, жох-баба. И еще: жадна до подарков и денег».
После того как они распили две бутылки водки, Анна призналась, что «Жорин дружок» прожил у нее не больше недели и уехал в Армавир к родичам и с тех пор: «Помьянай как звалы!»
Бутылки с запиской у телеграфного столба в огороде Анны Терентьевны Колков тоже не нашел, хоть и изрыл кругом все. Было ясно, что Сидельников не хотел иметь с ними дела.
«Ну и завербовал! — зло подумал Колков об Околове. — Какого-то пройдоху...»
На другую ночь они ушли из Ейска, к утру добрались до Старо-Минской станицы, оттуда на товарном поезде доехали до Тихорецкой и, чтобы окончательно запутать следы и повидать мать Ольшевского, укатили на попутной машине в Ставрополь.
— Хочу узнать, что с братом. Только надо ее как-то подготовить к встрече со мной. Сам по-о-о-нимаешь, каково матери увидеть сына спустя чуть ли не двадцать лет... которого травят как волка... — И Колков вдруг увидел, к своему удивлению, что Ольшевский утирает непрошеную слезу.
Мать Ольшевского работала в детдоме. Ольшевский остался на улице, а Колков зашел в большой двор. Был тихий час, кругом безлюдно, у крыльца стайка воробьев клевала брошенные чьей-то доброй рукой хлебные крошки. Колков поднялся по ступеням, толкнул крашеную дверь и вошел в коридор. За столом, на табуретке сидела в белом халате няня и, видимо, дремала, она подняла голову, только когда он подошел вплотную.
— Чего вам? — встревожилась она. — Сюда нельзя!