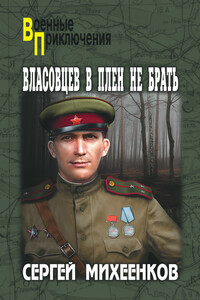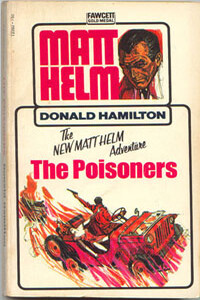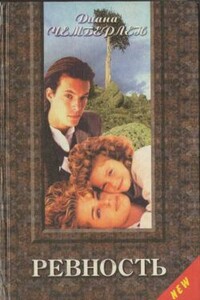Январь 1942 года в Белграде выдался холодным и снежным. Угля не было, дрова давали только в дома, где жили немцы или высокие чиновники и штаб-офицеры генерала Недича.
Жора Черемисов ухитрялся иногда раздобыть вязанку-другую дров и протапливал печи в квартире у себя и у Хованского. В комнатах было зябко и сыро. И все-таки настроение и у того, и у другого оставалось хорошим. Согревали душу добрые вести: Красная армия перешла в наступление и гонит фашистов от Москвы. Держится и Ленинград. Вступила в войну Америка.
По случаю своего дня рождения Хованский ожидал гостей. Зорица испекла торт (неслыханная роскошь!) и даже покрыла его глазурью. Иван Зимовнов раздобыл две бутылки «трофейного» вина, а Черемисов — целый литр «лютой сливовицы» и копченую баранью ножку. Собраться должны были в два часа. И вдруг около полудня кто-то чужой постучал в дверь.
Алексей крадучись подошел и посмотрел в глазок. На лестничной площадке стояла женщина. Видимо, у нее был очень тонкий слух, потому что она, повернувшись лицом к глазку, тихо произнесла:
— Алексей, генацвале, отворите, это я, Латавра. «Надежда»!
Горячая волна радости в сердце охватила все существо. Алексей быстро отдвинул задвижку.
— Ну вот и я, дорогой, — она, весело глядя, положила на стул узелок, протянула обе руки и окинула, как показалось Алексею, его материнским взглядом, в котором сквозили и нежность, и беспокойство, и женская ласка.
А он не выпускал ее рук, смотрел в эти глаза, и ему чудилось, будто приветствует его сама Родина, и, едва сдерживая слезы, только твердил:
— Здравствуйте, Латавра! Здравствуйте, дорогая! — и все крепче сжимал холодные пальцы женщины.
— Рады? Я тоже. Помните нашу последнюю встречу? И наш спор? Вы оказались правы, — словно стряхнув с себя что-то, заговорила она уже по-другому и принялась снимать простенькое коричневое пальто, напоминавшее крестьянскую домотканую сермягу, и развязывать платок.
Через несколько минут она сидела в столовой у камина и, зябко потирая руки, рассказывала, как в середине января прилетела на У-2 в Рогатицу, что в Восточной Боснии.
— А в это время четники вместе с фашистами нанесли внезапный удар по одному из батальонов 1-й Пролетарской бригады. И мне с батальоном в тридцатиградусный мороз пришлось совершить переход через заснеженный горный хребет Игман. Было очень тяжело и холодно, но все-таки интересно: с высоты хребта полюбовалась минаретами Сараева. Потом побывала в Черногории, в Колашине, Бабаячах. — Латавра невольно поеживалась, сдержанно жестикулировала. — Четники открыто призывают к уничтожению коммунистов. А в Боснии против четырех с половиной тысяч партизан воюют тридцать тысяч немецких и итальянских солдат и немало усташей; и только наше наступление под Москвой вынудило перебросить на Восточный фронт немецкие войска. Вот, Алексей… Алексеевич, прочитайте партизанскую листовку. — Она потянулась к своей простой крестьянской торбе, покопавшись в ней, вытащила скомканную в шарик бумажку, разгладив, подала ему: — Тут шифровка из Центра, ее нужно проявить. — Потом она достала из торбы другую бумажку: — А вот и листовка. Прочитайте!
— «Героическая Красная Армия победоносно гонит и уничтожает злейшего врага свободы малых народов и всего человечества. Она несет свободу всем порабощенным народам. Поднимайтесь, люди, и помогайте бить кровавых фашистских оккупантов. Будем достойны наших героических братьев!» — прочел Хованский.
— Советское правительство вопреки настояниям Англии отказалось поддерживать связь с генералом Михайловичем и помогло создать на территории СССР радиостанцию «Свободная Югославия», — ласково глядя в глаза Алексею, продолжала Латавра.
Она родилась в Кахетии. Но больше походила на черкешенку. «В ней течет не только кавказская кровь,— думал с нежностью Алексей, — она слишком женственна для грузинки и в то же время слишком самостоятельна. Руки маленькие, хотя сразу видно, что сильные. Впрочем, — спохватился он, — я ведь много лет не видел советских женщин!»