Семь дней, семь ночей я дрался на Балканах,
Без памяти поднят был с мёрзлой земли;
И долго, в шинели изорванной, в ранах,
Меня на скрипучей телеге везли;
Над нами кружились орлы — ветер стонам
Внимал, да в ту ночь, как по мокрым понтонам
Стучали копыта измученных кляч,
В плесканьях Дуная мне слышался плач.
И с этим Дунаем прощаясь навеки,
Я думал: едва ль меня родина ждёт!..
И вряд ли она будет в жалком калеке
Нуждаться, когда всех на битву пошлёт...
Теперь ли, когда и любовь мне изменит,
Жалеть, что могила постель мне заменит!..
И я уж не помню, как дальше везли
Меня по ухабам румынской земли...
В каком-то бараке очнулся я, снятый
С телеги, и — понял, что это — барак;
День ярко сквозил в щели кровли дощатой,
Но день безотраден был — хуже, чем мрак...
Прикрытый лишь тряпкой, пропитанной кровью,
В грязи весь, лежал я, прильнув к изголовью,
И, сам искалеченный, тупо глядел
На лица и члены истерзанных тел.
И пыльный барак наш весь день расставался:
Вносили одних, чтоб других выносить;
С носилками бледных гостей там встречался
Завёрнутый труп, что несли хоронить...
То слышалось ржанье обозных лошадок,
То стоны, то жалобы на распорядок...
То резкая брань, то смешные слова,
И врач наш острил, засучив рукава...
А вот подошла и сестра милосердья!
Волнистой косы её свесилась прядь.
Я дрогнул, — К чему молодое усердье?
«Без крика и плача могу я страдать...
Оставь ты меня умереть, ради Бога!»
Она ж поглядела так кротко и строго,
Что дал я ей волю и раны промыть, —
И раны промыть, и бинты наложить.
И вот над собой слышу голос я нежный:
«Подайте рубашку!» — и слышу ответ, —
Ответ нерешительный, но безнадёжный:
«Все вышли, и тряпки нестираной нет!»
И мыслю я: Боже! Какое терпенье!
Я дышащий труп, — я одно отвращенье
Внушаю; но — нет его в этих чертах
Прелестных, и нет его в этих глазах...





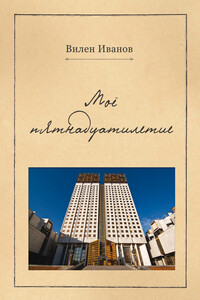
![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)