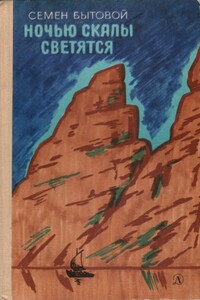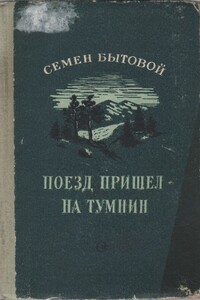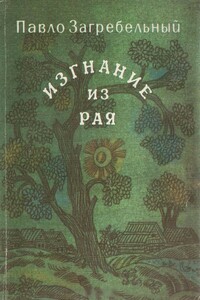- Вот тут, матуська, видись - медвезья берлога есть! Если зелаесь, выгоним его, застрелим! - сказал Евлампий Петрович так, что Ольга не поняла: говорит он это серьезно или решил пошутить.
К счастью, злополучная липа осталась позади, и Ольга успокоилась.
- Я мало-мало побезю! - неожиданно сказал ороч, спрыгнув с нарты на снег.
Ольга с удивлением смотрела, как легко, по-молодому бежит он за нартой, быстро мелькая короткими, немного искривленными внутрь ногами, обутыми в меховые унты.
- А мне можно? - спросила она и, не дождавшись разрешения, скинула с себя меховую дошку, спрыгнула на тропу и в одном свитере побежала рядом с Евлампием Петровичем. Дул встречный ветер, но Ольга, не чувствуя холода, бежала, стараясь не отстать от каюра, который, казалось, не знал усталости. Когда они минут через десять снова сели на нарту, старик с присущим ему спокойствием произнес:
- Однако цяевать пора!
- Может быть, все-таки не будем разводить костра?
- Нельзя, матуська, собацьки тозе кусять хотят. Его все равно, как люди, голодные не повезют...
Пока он разводил костер, Ольга стояла, прислонившись к кедру, и с тревожным любопытством оглядывалась. Кажется, только теперь, когда стало заходить солнце, она обнаружила, как бедна зимняя тайга. Даже такие деревья, как ильмы, поражавшие своей огромностью, беспомощно простерли голые, чуть припушенные лиловым снегом ветви. Несколько оживляли пейзаж кедры с густой мглистой хвоей. То здесь, то там слышно было, как срываются с них тяжелые рыжеватые шишки. Ольга подняла одну, упавшую к ее ногам, и стала извлекать орехи.
Старик снял с нарты медвежью шкуру, расстелил на снегу около костра и велел Ольге садиться. Он налил ей в жестяную кружку чаю, придвинул хлеб, копченые кетовые брюшки, вареную сохатину, банку сгущенного молока. Потом расправил короткую барсучью шкурку, висевшую у него за спиной на поясе, сел на нее, подобрав ноги, и принялся "цяевать". Не торопясь, он пил кружку за кружкой горячий чай с соленой кетой вместо сахара, и лицо его, несмотря на стужу, покрывалось испариной. Выпив шестую - последнюю кружку, он отер рукавом усы, достал трубку и бестревожно закурил.
Тут уж Ольга не выдержала:
- Евлампий Петрович, ведь мы с вами, не на прогулку отправились, а к больной женщине. Пока мы тут распиваем чаи, в Кегуе может случиться беда!
Старик показал на закат:
- Солнце худо засьло, матуська!
- Ну и что? - не поняла Ольга.
- К ноци, однако, запурзит!
- Что же теперь делать? - почуяв недоброе, спросила она.
- Залезяй, матуська, в кукуль!
Горизонт действительно был слишком багров. Небольшие облака, скопившиеся над горным хребтом, приняли какой-то зловеще лиловый цвет. Ветер стал порывистее, резче. Но до пурги, казалось Ольге, еще далеко. Она вспомнила пургу, разыгравшуюся с чудовищной силой в начале февраля, когда весь Агур с его домиками, телеграфными столбами, с сопками, замыкавшими долину реки, потонул в сплошном белом вихре. А нынче как будто ничего особенного. Подумаешь, "солнце худо зашло"!
Старик принес и положил перед Ольгой меховой мешок, и она догадалась, что это и есть кукуль.
- Значит, дальше не поедем? - спросила Ольга с досадой. Она поняла, что ей все-таки придется залезть в этот душный меховой мешок и неизвестно сколько времени лежать как мумия, вместо того, чтобы торопиться в Кегуй к роженице.
Вскоре ее так разморило в теплом кукуле, что глаза слиплись и она заснула.
И приснился ей странный сон:
...В тихий солнечный день едет она на собачьей упряжке в Мая-Дату к Клаве Тороповой. Сверкающая снежная дорога бежит сквозь тайгу, петляя меж высоченными кедрами, с которых со звоном падают в раскрытый кукуль тяжелые, туго набитые орехами шишки. Дорога длинная, и кукуль уже полон до отказа, а кедров впереди не счесть, и Ольга заставляет упряжку свернуть в распадок с белыми каменными березками. В самом конце распадка, около небольшого бревенчатого дома стоит Клава. Высокая, стройная, она машет Ольге рукой в меховой варежке и весело улыбается, обнажив красивые белоснежные зубы. "Почему вы одна, а где же Юра?" - спрашивает Клава. "Юра приедет после", - отвечает Ольга. Вдруг из глубины леса раздается голос Ефросиньи Ивановны: "Помогите, а то я уроню!" В руках у нее высоченный, как снежный сугроб, пирог, весь обсыпанный кедровыми орехами. "На счастье тебе, мамка!" - говорит Фрося и хочет передать его Ольге, но неожиданно пирог начинает таять и через несколько минут уже становится крохотным. "Где же счастье мое, Фросенька? Видите, оно растаяло!" - "Ничего, мамка, говорит уверенно Фрося, - наши люди сейчас новый пирог принесут". Ольга оборачивается и видит, как с горного перевала спускаются орочи - те самые, что ночью собрались около больницы. "А где же Мария Никифоровна?" спрашивает Ольга. "Я здесь, мамка-доктор! Спасибо тебе!" - слышится знакомый голос.