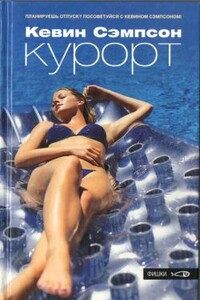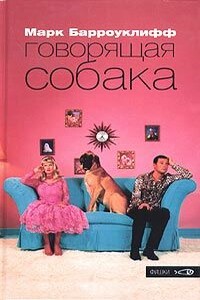Джереми это выбежал из бара на холодный октябрьский воздух. На улице, в темноте, под кронами деревьев он пришел в себя. Он думал, что будет беситься, плакать или скрежетать зубами. Он уже был готов взорваться, как заметил впереди какую-то фигуру. Это была девушка, она стояла на коленях, закрыв лицо ладонями. Джереми узнал Фриду, бездарную певицу.
— Эй, — окликнул он. — Эй, ты!
Фрида подняла на него глаза. Ее лицо, в подтеках туши и теней, выглядело несчастным.
— Тебе удалось? — всхлипнула она.
— Что?
Фрида показала на «Ховел».
— Я-я имею в виду, у тебя получилось? Там, на сцене? Ты справился?
— Нет, — признался Джереми. Его голос был тверд. — Я провалился.
Как только он это сказал, то почувствовал холод в животе. Это была новая, хладнокровная ярость. Болезненная, но правильная. Он почувствовал, что готов к подвигам. Как будто он побил дедушку.
— Я Джереми Якс, — представился он. Его трясло. — Я ужасен.
Фрида вздрагивала. Она вытерла лицо и протянула руку разъяренному юноше.
— Я Фрида, — сказала она, — пойдем.
Они пришли в комнату Фриды. Подчиняясь молчаливому, обоюдному согласию, Джереми начал раздевать Фриду. Он делал это грубо, но она не сопротивлялась. Потом они легли.
Когда они занялись сексом, Джереми смотрел прямо в глаза Фриды. Он двигался в ней, мстя за пережитую ночь. Фрида издавала жуткие звуки, ничем не отличавшиеся от звуков, издаваемых ею в «Ховеле». Когда все было кончено, они лежали, обнявшись. Руки Джереми дрожали. Фрида закрыла глаза. Джереми хотел сказать что-нибудь на прощание, но ничего не лезло в голову. Он просто встал, оделся и ушел.
Когда ему исполнилось двадцать три, Джереми Якс вернулся в Манхэттен. К этому времени он закончил колледж по классу русской литературы, приобрел седину и квартиру в Примптоне, на пересечении Западной Восемьдесят второй и Риверсайд. Еще он работал помощником режиссера в театре «Лукас», на Пятьдесят Первой улице, историей которого он восхищался.
«Лукас» переживал упадок. В 1930-х он гремел на Бродвее, ставил мировые премьеры нескольких известных произведений, в том числе «Убей меня позже» Хантера Фрэнка и «Восемь коробок» Даззл Мак-Интайр. Сами пьесы и театр пользовались популярностью благодаря своей нерафинированной, агрессивной честности. Постановкой «Убей меня позже» даже заинтересовалась нью-йоркская полиция в 1938 году, так как актеры, игравшие жертву убийства, сменялись каждый день и после представления каждый раз исчезали из состава труппы. Владелец «Лукаса», Себастьян Хью утверждал, что это всего лишь хитроумная уловка, придуманная, чтобы подогреть интерес зрителей. Жители Нью-Йорка попадались на крючок и скупали билеты пачками.
К началу 1990-х, когда Джереми Якс устроился на работу в театр, для «Лукаса» наступили не лучшие времена. Все было в запустении. Черные плюшевые кресла нуждались в ремонте, а с потолка сыпалась штукатурка. К тому же Майкл Хью, нынешний владелец и директор «Лукаса», не собирался ставить сенсационные, шокирующие пьесы.
— Сатира — хорошо, — говорил Майкл, — ирония — замечательно. Но никакого экзистенциализма. Никакой аморальности. Никакой внутренней опустошенности.
Майкл сидел у себя в офисе, разговаривал по телефону с автором последней постановки. Джереми Якс находился в соседней комнате и подслушивал.
— Теперь, — говорил Майкл, — есть недоработка в пьесе «О мышах и мышах».
Джереми вздохнул. Премьера спектакля «О мышах и мышах», нового шоу «Лукаса», должна была состояться через месяц. Спектакль выходил за рамки традиционного репертуара театра. В пьесе все актеры играли в костюмах гигантских мышей.
— В первом акте все хорошо, — продолжал Майкл. — А вот во втором… Что это за катание мышей во втором акте?
Джереми опять вздохнул. С самого основания театром управляла семья Хью, известная на Манхэттене театральная династия. Хью всегда выступали продюсерами и режиссерами шоу, а иногда даже редакторами пьес. Это было не принято, но Лукас Хью, основавший театр в 1890 году, был невероятно богат и мог себе это позволить. Майкл Хью тоже.
— Хорошо, — закончил разговор Майкл Хью, — я хочу исправленную рукопись к завтрашнему дню! — Он повесил трубку.