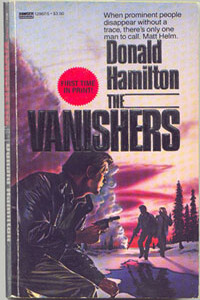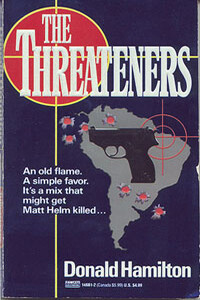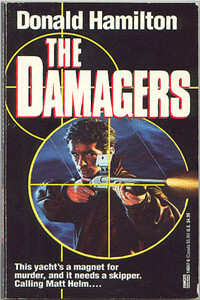В какой-то момент он откинулся назад, чтобы достать последний магазин для «калашникова» из лифчика. Они сами шили такие жилеты с большими карманами, в которых носили боезапас и всякие другие полезные для войны вещи. Так вот, Димыч откинулся на спину и вдруг заметил в небе светящуюся точку — самолет. Он летел в десяти километрах над землей, но эти десять километров представляли собой границу между двумя мирами. Димыч живо вообразил, как там сейчас люди, какие-нибудь пассажиры рейса Ташкент — Дели, ужинают, переговариваются, слушают музыку, кто-то флиртует, стюардесса разносит выпивку. А здесь, под их ногами, звучат очереди, несколько его товарищей убиты, да и сам он ранен и уже ни на что не надеется.
Я сейчас испытал нечто подобное. Вот Лев повесил трубку и пошел в наш подвальчик. Закажет себе люля-кебаб, овощной салат, сто граммов водки, пару пива и будет там тихо переживать за нас. А я повесил трубку и не знаю, буду ли я жив через час, к утру, да и просто через пять секунд. Я посмотрел на часы — без двадцати два.
Я поблагодарил паренька, и мы с Гадой вышли во двор. То ли талибы получили новые разведданные, то ли, отбомбив один сектор — наш, — они перешли на другой, но зарево сейчас висело над северными кварталами.
Мы были на южной окраине и из-за отсутствия домов могли наблюдать за процессом целиком. Правда, больше ушами, чем глазами. Вот слева, за холмом, раздается крепенький энергичный «бух». Дальше поворачиваем голову, пользуясь, как радарами, своими ушами. Вой конкретный, зловещий, отдающийся где-то в корнях зубов. Вот слева, за домами, взрыв, и еще один отблеск пламени добавляется к зареву. Я представил себе, что там сейчас творилось — талибы били прямо по жилым кварталам.
Командир Гада взял меня за локоть. Его лицо стало каким-то рельефным — прорезались тени под глазами, ушедшими еще дальше в глубь черепа, щеки тоже ввалились, обозначив скулы. Теперь это привлекало взгляд даже больше, чем желтые корешки зубов у него во рту.
Мы уже вышли за шлагбаум, а Гада все еще говорил: горячо, сверкая глазами. Капельки слюны летели у него изо рта в самых драматических местах. Ключевые слова были те же: «сын, изумруд, деньги», но чего он хочет от меня, я не понимал.
— Стоп, стоп! — остановил я его. — Командир Гада, я тебя понял: «песар, замарод, пайса»! Но ты пойми меня тоже! Я не знаю, что там произошло. Это все-таки сто пятьдесят штук — такие деньги не лежат под подушкой, их надо найти.
Гада перебил меня и минуты на две держал слово. И знаете что? Все это время он не был агрессивен, он не угрожал. Он просто очень переживал и просил — не униженно, с достоинством, — но просил меня снять с его души эту тяжесть.
— Голубчик, говорю же тебе: я все прекрасно понимаю. Но и ты меня пойми! — встрял я, когда ему понадобилось перевести дух. — Ведь пока все идет по плану. Я тебе тогда сказал, что сына освободят либо на следующий день, либо через один. Его освободили на следующий! Если бы его освободили только сегодня, тогда было бы нормально, что деньги он получит завтра. Фардо!
Я, как мог, иллюстрировал свои слова жестами, но Гада понял, похоже, только последнее слово.
— Фардо? — переспросил он.
— Ну, говорю же тебе! Фардо!
Мы только вчера так пять минут с ним объяснялись, в сущности, с помощью одного этого слова.
Гада снова горячо заговорил. Я молча смотрел на него. Только тут Гада ясно осознал, что я его не понимаю. Он задумался на секунду.
— Малек!
Конечно же, нам нужен был переводчик! Хотя в данной ситуации большого смысла в этом не было. Малек объяснит Гаде то, что я уже достаточно ясно выразил словом «Фардо». Но я представлял себе, чем сейчас занимался единственный хирург города, по которому уже много часов беспрерывно палили из пушек.
— Малек! — повторил командир Гада. Его тон означал: вот решение проблемы, и других быть не может.
Мне пришлось изобразить целую пантомиму. Разрывы снарядов, раненые, Малек со скальпелем мечется от одного операционного стола к другому.
Гада выпрямился. Он приложил руку к груди и сказал несколько коротких фраз. Я различил только слово «Аллах» и потом, в самом конце, «лёт фан». Так бы я мог сказать ему «Христом Богом молю», а потом, поняв, что мой собеседник другой веры, добавил бы общечеловеческое «пожалуйста». Кстати, я впервые услышал это слово в устах афганца.