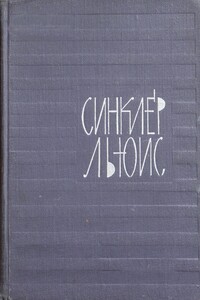Утро уже кончалось, когда я добрался до своей хибарки, предполагая, что егеря уже побывали за столом у ручья, оставили там свежий запас продуктов и давно ушли оттуда. И все же, пока я полз по кустам, растущим на берегу, внизу в приглушенном лесном свете я уловил какое-то движение. Раздвинув ветви, чтобы было лучше видно, я понял, что это вовсе не егеря, а девушка, в напряженной позе застывшая у стола и жадно заглатывающая провизию; быстро оглядываясь по сторонам, она готова была отпрыгнуть в сторону при любом звуке.
Лохмотья, оставшиеся от ее костюма, все еще можно было узнать, и я был уверен, что уже видел эти густые черные волосы и длинные ноги. Я вспомнил, как вчера повстречался с небольшим отрядом с ищейками и мальчиками-бабуинами, и мысль о том, что им не удалось выполнить свою задачу, наполнила мое сердце радостью: они не поймали ту «птицу», по которой стрелял да промахнулся наш жирный спортсмен. Ей удалось сорвать с лица уродливую маску с клювом и сдвинуть ее на макушку. Она отодрала приклеенные к рукам крылья из перьев и коричневые с золотом перья хвоста, хотя узенький, усыпанный перьями пояс, к которому они крепились, оставался на талии. Перышки на «птичьей» шейке были безнадежно испачканы, и вся она с ног до талии была вымазана засохшей грязью, как будто пробиралась по болотам и запрудам.
Я ломал голову, как бы не испугать ее до смерти своим появлением и решил, что лучше всего смело показаться ей с некоторого расстояния, от ручья, чтобы она могла разглядеть меня и убедиться в том, что я не лесник, прежде чем мне удастся подойти ближе. Поэтому сначала я шел за кустами, а потом с показной беззаботностью ступил на берег ручья.
Но прежде чем я спустился к ручью, ее уже и след простыл: она неслась между деревьями подобно оленихе или косуле. Не спеша я подошел к столу, взял ломоть хлеба и начал есть, оглядываясь по сторонам. Ее нигде не было видно. Прошла минута-другая, и я позвал ее по-английски. Уловив едва заметное движение листвы на нижних ветвях дерева, я понял, что она следит за мной. Я снова заговорил по-английски, надеясь, что даже если она не поймет меня, само звучание иностранной речи убедит ее в том, что я пленник, как и она, или раб. Но ответа не последовало. Я не отрываясь смотрел на то место, где минуту назад шевелились листья: мне казалось, что она вскарабкалась по свисающим ветвям огромного бука и спряталась в его густой листве.
И тут, не думая о той страшной исторической пропасти, которую мне таким странным образом пришлось перепрыгнуть, и не помня точно, где и когда в моей прошедшей жизни я видел этот жест, я показал ей знак «V» — ну, ты знаешь, это жест Черчилля, которым так часто пользовались, по словам сотрудников службы пропаганды, в оккупированной Европе. Листья снова зашевелились: показались плечо и рука, и я увидел тот же самый жест. Поняв это, я подошел ближе, к самим ветвям, и начал объяснять по-немецки, насколько позволяло мое знание этого языка, что я видел, как она убежала после неудачного выстрела, и что я тоже был пленником Графа. Она прервала меня на чистом английском, без малейшего акцента, сказав очень твердо:
— Если вы знаете сравнительно безопасное место, где можно поговорить, пойдемте тупа. Вы идите первым, а я за вами.
Удивляясь ее хладнокровию и умению владеть собой и своим голосом, странно взволнованный тем, что встретил здесь, в этом лесу, свою соотечественницу, я медленно пошел по направлению к своей лачужке. Не заходя в нее, я вышел на открытое место, где завтракал в то первое утро, которое провел в этом лесу. С трех сторон оно было открыто для наблюдения, а с четвертой находилась густая роща с зарослями буйно растущей сорной травы, где в случае необходимости можно было бы быстро спрятаться. Я шел через эти заросли, не оглядываясь назад, но когда остановился и присел на корточки, увидел, что девушка идет за мной по пятам, пригибаясь так низко, что ее почти и не было видно в траве. Она съежилась и стала маленькой, как куропатка, и мне была видна лишь ее голова в причудливом шлеме с клювом. У нее было милое, слегка веснушчатое лицо и умные серые глаза. Пока мы говорили, она ела захваченную с собой со стола какую-то еду и не спускала с меня изучающего и оценивающего взгляда; лицо ее было не испуганным и не измученным, как я ожидал, а скорее настороженным и временами, когда она рассказывала мне о своих злоключениях, дерзким и вызывающим.