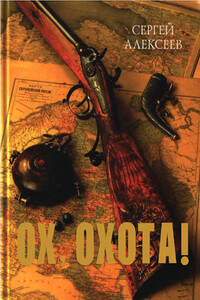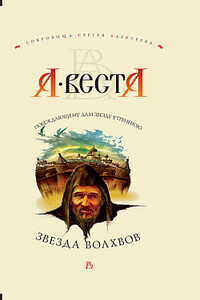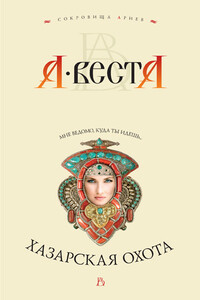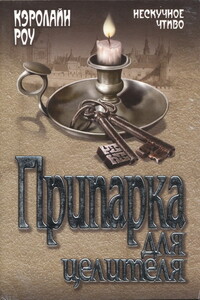— Бабе — кранты, одно мясо. Завернем ее в линолеум и зароем.
— Вот сучка живучая, дышит еще…
— Ты глянь, сколько кровищи нахлестало, сдохнет по дороге.
— Кто ее заказал-то?
— Я так и не понял, звонок был через посредника. Таких обычно «папики» заказывают, если с охранником спуталась или вообще достала. Товар-то скоропортящийся…
Поддев кусок вспученного линолеума, рыжий оторвал его от стены до стены. На линолеум бросили тело.
— В багажник не влезет, — ворчал малохольный.
— Раньше влезало и теперь влезет…
Глава седьмая
Азбука любви
Чем дольше человек смотрит на пламя, тем глубже уходит в древнюю, полузвериную память, и еще дальше: в исток, огненное средоточие жизни. Огонь и человек — два брата, два давних свидетеля рождения мира, два путника в пучинах мрака и холода, и всякий огонь — отражение жизни по ту сторону вечности.
Алексей сидел у полыхающего печного устья. Он весь подался вперед, протягивая к огню окаменевшую от холода ладонь. В эти минуты он забывал обо всем и растворялся в реве пламени. Он привык подолгу смотреть на огонь, это было его единственным развлечением и отдыхом за день. За стеной плескал дождь, предвестник свирепых осенних ливней, что сбивают яркий осенний цвет с кленов, размывают в липкую жижу сельские дороги, ломят с веток поздние яблоки. После такого потопа не прогреться, не оправиться земле.
«Дождь — душа трав, снег — откровение воды, а снежинки можно читать. Читать можно все: рисунок ветвей, черты и резы берез, струи ручья, цветы, мох, тени на песке, муравьиные тропы, полет птиц и кресты паутины…» Он тяжело вживался в лесную жизнь, не понимая ее примет и тайных знаков. Поначалу он был глух и слеп и, как малый ребенок, не умел охватить разумом огромное благое существо, окружавшее его заботой и любовью, но рос и расправлялся от этой любви.
Лес принял его пустым, обожженным, с кровоточивым осколком, засевшим в памяти, и подарил милосердное забвение. Исцелил шумом зеленых приливов, напитал духовитым пестроцветьем, огладил прохладой ручьев. Лес делился с ним дыханием пугливой жизни, таящейся в корнях и кронах, в дуплах и норах, в нехоженых заломах и болотах. И Алексей научился читать прописи звериных троп и слушать биение сердца, рассыпанного на тысячи малых сердец. Каждый день он просыпался почти счастливый и, наскоро позавтракав, спешил на обход, вернее, на свидание с лесом.
Лицо схватило близким жаром. Пламя с треском вгрызалось в сухие поленья. На печи парила брезентовая куртка. Ранним дождливым утром он кое-как доволок Егорыча до трассы. Самым коротким путем от заимки до шоссе получалось километров пять. Потом под моросящим дождем они долго ловили попутку, и лишь к вечеру старик приютился на свободной коечке в коридоре местной больницы. Врач, принимавший Егорыча, уверил, что при первой возможности ветерана переведут в палату. Да Егорыч и здесь не жаловался. За всю свою лесную жизнь он так и не обвык в одиночестве. Душа его тянулась к людям. А здесь в больнице и сестренки молоденькие, еще не очерствелые на тяжелой и скудной своей работе, и есть с кем словцом перемолвиться: вот, живу еще, и лечат меня, и о хворях выспрашивают… Значит, кому-то на земле еще нужен Егорыч. Алексей пообещал старику навещать ежедневно.
Алексей поставил на печную конфорку чайник. Чувствуя колючий озноб во всем теле, добавил к заварке мяты, клюквы и сушеный земляничный лист. Нельзя ему болеть, никак нельзя; лесник — власть и оборона лесу от обнаглевших шарашников. До сих пор спасал он лес ежедневными обходами, а случись незадача, за один день бензопилами половину Тишкиной пади снесут. Валили в основном березу, но забирали только середину стволов, а широкие комли и вершины оставляли догнивать поверх болота. Когда обходил он места диких порубок, чудилось: не деревья лежат, а людские тела, вповалку, в темных обгнивших одеждах.
На вытертой овечьей шкуре, уткнув нос в ржавое охвостье, грелась у печки старая овчарка Велта. С самой войны Егорыч не любил немецких овчарок, но Велта прибилась к избушке по чернотропу, впереди было самое холодное и бескормное время. Собака доползла до крыльца и улеглась на дощатых, вымытых дождями ступенях. Трудно взять на себя заботу о собаке тому, кому и самому есть нечего, но и выгнать псину перед зимой — последнее дело.