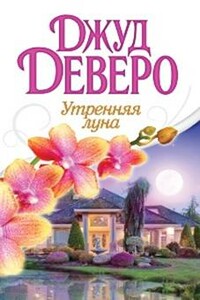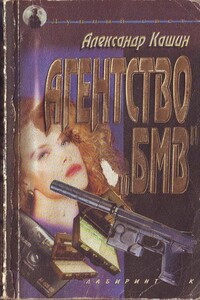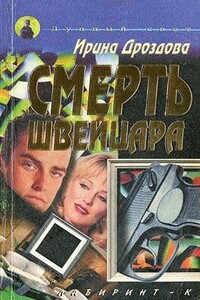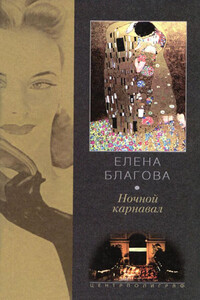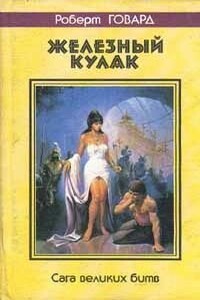Карлик изумленно глядел на молодую, с нежной кожей, с румянцем на скулах, красивую его госпожу. Его лицо мучительно кривилось. Как хорошо, что она не видит, как по его бульдожьим щекам ползут слезы.
«Побойтесь Бога, госпожа. Вы мелете языком. У вас жизнь только начинается с господином. Вас Бог чудом от смерти спас, значит, Он хочет, чтобы вы жили дальше. Кого Бог берет – берет сразу и навсегда».
«Тот и счастлив, Стенька. Нет, тогда я была молода по-настоящему!.. Это было, когда я училась в Америке…»
…………………небоскребы Нью-Йорка, бешеного города, одного из самых быстрых городов. Ей не понравилось там жить. Слишком быстро все ходят; слишком торопливо едут; слишком много народу на улицах, слишком узких, каменных и голых, и слишком высоко зданья уходят в небо, заслоняя его от глаза. Она, Жизель, была совсем юная, только закончила школу, и ее родители решили отправить ее поучиться в Нью-Йоркском университете – специальность «искусствоведение» была загадочной и очень женской, ее предкам казалось, что их хорошенькая девочка просто создана для искусствоведения, только для него. Зачем лететь за океан?.. Разве мало профессоров в Москве?.. Жизель глядела на Нью-Йорк отнюдь не восторженно: ах, Америка!.. – он утомлял ее, ей хотелось в старую Европу, к старым камням Франции, к фонтанам Италии, на дикие поемные луга России, на озера с карасями. А вместе этого сиди в каменном мешке, слушай лекции то по-английски, то по-русски – в Нью-Йоркский университет приезжали писатели, художники, режиссеры из России, это была какая-то русская тусовка, Жизели казалось – Нью-Йорк русский город, когда на Брайтон-Бич она слышала, как полисмены свободно по-русски матерятся. И здесь, в Нью-Йорке ее юности, она и встретила эту странную девушку, красавицу-гречанку, черноволосую и высокую, с черненькими усиками над губой, отчего та всегда напоминала Жизели пушистый персик, – Хрисулу.
Хрисула тоже училась в Университете. Девочки сидели вместе на лекциях, оживленно болтали по-английски – Жизель совершенствовалась в языке, – а потом Хрисула немного учила ее греческому языку, такому мелодичному, как итальянский, и буквы там были – ну совсем русские. А вечерами Хрисула куда-то исчезала. Жизель боялась спросить ее. Потом все-таки спросила. И Хрисула ответила ей сразу, весело и грубо: «А ты не догадалась разве?.. Я промышляю ночным ремеслом. Это очень весело, особенно в Нью-Йорке. Здесь такие классные мулаты попадаются!.. А латиносы!.. умереть от восторга… и щедрые, много платят…» Жизель глядела на Хрисулу, как на сумасшедшую. «И ты… еще не заболела?.. – наивно спросила она. – И тебя… еще никто не избил?..» Хрисула засмеялась звонко, будто много колокольчиков зазвенели сразу. «Ты просто Божия коровка, Жизель, – хмыкнула она. – Ты не знаешь жизни! Жизнь, darling, она опасна! Но в риске – прелесть! Я люблю опасность! Я люблю ночь и новых мужчин! И это же приключенье, а тебе повезет в жизни только тогда, если ты вся, настежь, открыта приключеньям!.. Хочешь – пойдем со мной?.. Попробуешь?.. Раз начнешь – не оторвешься! У меня всегда деньги есть, я – не то что ты, так и ждешь, когда набегут в банке твои вшивенькие процентики!..» Жизель задрожала. «Но это невозможно!.. Я… не смогу!..» Хрисула засвистела сквозь зубы какую-то греческую песенку, подмигнула ей и улизнула. В свою опасную, смелую жизнь. На ночную нью-йоркскую улицу.
И однажды Хрисула пришла с улицы к ней, к Жизели, домой – она снимала маленькую квартирку в районе Лексингтон-стрит – со странной дамой, много старше себя; дама была еще красива, хоть белые, сивые волосы у нее на голове уже начали редеть, и она забирала их на затылок черепаховым гребнем, чтобы никто не увидел намечающейся смешной лысинки. Даму звали Моника, и у нее были вставные зубы, а рот она красила модной дешевой перламутровой помадой «Kiki». Моника оказалась разговорчивой путаной. Она была умна, весела, у нее была смешная худощавая фигурка, вся состоящая из острых углов, и девочки узнали из ее предутренних рассказов за бутылкой желтого кальвадоса, пачкой сигарет и крепким, как горчичник на желудок, кофе, что ее мать была шпионка, и ее звали Цинтия, и на была страшно знаменитой шпионкой, – ну, а Моника росточком, что ли, не вышла, или умом, зато взяла красотою, на Бродвее и на Кэнел-стрит от белых и от негров просто отбою нет!.. нет, нет, она не проститутка, это так, ее развлеченье, а так она историк, она закончила исторический факультет Нью-Йоркского университета… да только вот знанья в одну дырку вошли, в другую – вышли… Они тогда хохотали и курили сигареты, да, Жизель даже помнила, какие – «Salem». А потом презабавная Моника укатила в Европу; она вскричала напоследок: «Мне надоела Америка! Здесь все безмозглые скоты! Хочу в умную Европу, но не в Англию поеду – махну в Италию, люблю солнце, люблю, как итальянцы поют!..» Она прислала им с Хрисулой открыточку уже из Венеции. Пришло еще несколько открыточек, нацарапанных, как воробей лапкой – о том, что она счастливо вышла замуж за профессора археологии, господина Армандо Бельцони.