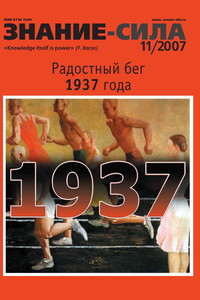Это все было грустно. В ту пору я еще надеялся найти сообщество, близкое мне по духу, среди тех, кто знает, что такое наука. Это оказалось невозможным.
То, что думал я и что в конце концов стало продуктивной жизненной и научной позицией, входило в резкий конфликт с, казалось бы, непроблематичными, естественными представлениями, бытующими в научной среде, — о человеке, о мышлении, о том, как одни люди получают знания о других людях, и чем эти знания отличаются от знаний об окружающем мире, которые несет физика.
Не поддержку, а противодействие или, в лучшем случае, благожелательное безразличие встретил я в научной среде. Сознавая, что сам я человек склада далеко не ангельского, должен признать, что ничего странного или из ряда вон выходящего я ни тогда, ни сейчас в том не нахожу. Могло быть гораздо хуже. Мне повезло, что моими оппонентами были не мерзавцы, а люди порядочные. За это я благодарен судьбе. Кроме того, были исключения. Редкие, но были, это дало мне возможность выжить.
Никаких «мировых констант», описывающих динамику социальных процессов, не было, да и не могло быть найдено. Все это были детские игры взрослых людей. Так мне казалось довольно долго. Но в конце концов я понял, что это не так.
Тот семинар был примером тупика, в который попадает пассионарная энергия, запертая в душах. Это она билась в глазах ведущего, когда тот несусветную глупость пытался представить как близкий триумф научной мысли. Это она заставила докладчика взять научные понятия, имеющие точный смысл в статистической физике, в физической кинетике, в теории твердого тела, и воспользоваться ими как метафорами, как поводом для того, чтобы вызвать окрашенные научным флером ассоциации, связанные с жизнью людей, общества.
Наука, построенная на метафорах, или «метафорическая наука», — это род поэзии, но поэзии обманной.
Поэтическая метафора не скрывает лица. Обращенная к человеку, она доверчиво приглашает его быть хозяином смысла, который она несет. Ей не нужно стыдиться своей метафорической природы.
Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней
вернется
На крыльях срезанных, с прозрачными
играть...
Что свяжет читатель со слепой ласточкой Мандельштама в чертоге теней? Что свяжет, то и свяжет, его дело. Метафора говорит ему: возьми меня, я тебе пригожусь. Будь со мной добр, будь внимателен ко мне... Так поступает честная поэтическая метафора. Сила ее обеспечена личностью того, кто ее создал. Ей не надо говорить человеку: ты обязан понимать меня только так и никак иначе, потому что в таких-то книгах такие-то авторитетные люди написали, что я означаю именно это, а не что-то другое. Как только метафора пытается говорить таким языком, она перестает существовать как язык личности, перестает быть честной метафорой.
Единственное, что поэтическая метафора действительно запрещает мне, так это запретить другим видеть в ней не то, что вижу я.
Линейное пространство, точки которого суть многомерные векторы, это не метафора, а точное понятие, толкование которого не допускает никакой двусмысленности.
Утверждение же, что состояние общества может быть представлено как совокупность векторов в таком пространстве, — не более чем метафора. Но метафора нечестная. В отличие от метафоры поэтической она вынуждена скрывать свою метафорическую суть, маскироваться под строгое научное предположение. Обманывая тех, кому адресована, она сулит «научно обоснованные результаты», которые в конечном итоге оказываются никуда не ведущими и ни к чему не обязывающими метафорическими иносказаниями, имеющими внешние признаки науки.
Не стоило бы говорить обо всем этом, если бы метафорическая наука сводилась просто к деятельности, окрашенной в научные тона и построенной на недостаточно продуманных основаниях. Такое было всегда, из века в век. Живая наука во все времена соседствовала с наукой мертвой, метафорической, которая «кормилась возле».
Но в наше время метафорическая наука приобрела поле действия широкое, как никогда. В ней воплошена огромная пассионарная энергия. Загнанная в тупик, она разрушительно действует и на саму науку, и на культуру.