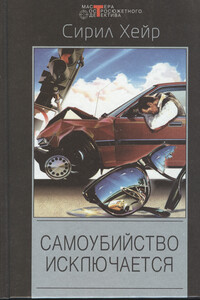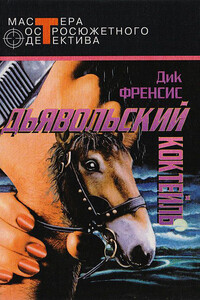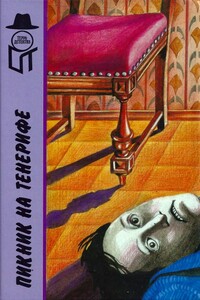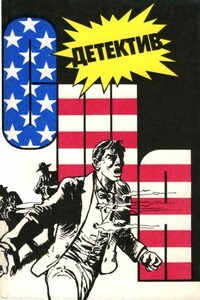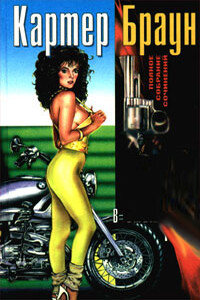Тогда чего же она ждет? Выстрела, когда погасят свет? Вряд ли – слишком рискованно. Он все еще не мог выбросить из головы мысль о том, что Марч и Фрэд должны как-то отреагировать на то письмо, которое он им прочитал. Но вот они оба здесь, и по их внешнему виду нельзя предположить, что они что-то замышляют. Яд в виски? Графин с водой? Исключено – по той же причине. Тогда что? Может быть, он вообще ошибся в своих расчетах и они рассматривают его всего лишь как микроскопическую частицу в ферменте, используемом при производстве неизвестного ему химического вещества?
Эта мысль пронзила Саймона подобно электрическому току.
Тем временем музыка смолкла и на сцену снова вышел ведущий с микрофоном. Оркестр удалился, и теперь на сцену втаскивали пианино.
– А теперь, леди и джентльмены, мы покажем вам номер, который сделал «Палмлиф фэн» знаменитым: великий певец, маэстро грустной музыки, томной лирики и непристойных песенок – единственный и непревзойденный Джесс Роджерс!
Саксофоны, тромбоны, кларнеты и рожки дружно грянули мажорную мелодию, и на сцену вышел человек, которого Саймон Темплер искал.
* * *
Хоппи Униатц, еще не оправившийся после нанесенного ему оскорбления, облокотившись на стол, наклонился к Саймону.
– Босс, – уныло зашептал он так, что было слышно в противоположном конце зала, – мне надо выйти.
– Заткнись, – рявкнул Святой. – Потерпишь. Это тот самый человек, ради которого мы сюда пришли.
Мистер Униатц взглянул на сцену и был явно разочарован:
– Он ничего собой не представляет, босс. Бьюсь об заклад, голозадый петух, да и только.
Саймону понравилось сравнение Хоппи, но он понимал, что к Джессу Роджерсу оно не подходит.
Роджерс был вполне нормальным типом мужчины – если такая классификация вообще приемлема, – даже если он и не вписывался в атмосферу, царившую в «Палмлиф фэн». По его внешнему виду можно было предположить, что он, например, окончил колледж. Лицо тонкое и довольно Моложавое, очки придавали ему ученый вид, а узкие плечи и бледный цвет лица свидетельствовали о не вполне здоровом образе жизни в прошлом.
Его репертуар, однако, говорил об обратном. Его первая песня носила настолько двусмысленный характер и прямолинейные намеки, что заставила покраснеть даже видавшего виды бармена и, следовательно, вызвала шквал аплодисментов. Было ясно, что певец пользовался огромной популярностью. Когда овация стихла, раздались спорадические крики: «Октавий!» Роджерс улыбнулся со страдострастием херувима и сказал:
– По просьбе слушателей – «Октавий», «Восьмидесятилетний Октавий».
Пороки Октавия, его трудности и способы их преодоления – все было преподнесено слушателям на одном дыхании. Хотя биологически это было и невозможно, но содержало остроумную концепцию; и так продолжалось довольно долго.
К столику подошел официант, взял бутылку «Питера Доусона» и собрался было разлить содержимое в бокалы. Но это был непродуктивный вид обслуживания, так как мистер Униатц не мог дать оценку качества алкогольного напитка, если он оставался в бутылке неразлитым. Официант почтительно наклонился к нему и спросил:
– Принести еще бутылку, сэр?
– Думаю, да, – ответил Святой с фатальным чувством человека, имеющего в этом плане большой опыт. – Или в данном случае требуется дополнительная плата?
Официант вежливо улыбнулся и ушел. Песня продолжалась, и с каждым куплетом развлечения Октавия становились, все более и более изощренными. Вскоре дело дошло до странных шалостей с купальщицами на острове Бали.
Карина спросила с любопытством:
– Ну как он тебе, нравится?
– Он знает себе цену, – ответил Святой тоном судьи. – Я стараюсь понять, чего еще он стоит. Сначала я подумал, что здесь что-то не так, но сейчас не уверен.
– Он для тебя крепкий орешек?
– Сейчас – да. Крепче, чем Дженнет. Странный поворот дела. Всегда удивляешься, когда создаешь себе образ негодяя, а на деле он оказывается совершенно другим; и все же я не сомневаюсь, что эти парни с детскими личиками могут быть опаснее, чем явные хулиганы.
Он счел неуместным обсуждать с ней Роджерса. Сам факт, что она сидит сейчас здесь с ним рядом, казался нереальным; по сравнению с этим все остальные несуразности отступили на второй план. И даже эта невообразимая абсурдность стала частью фантастической ситуации, которую ему больше не хотелось анализировать.