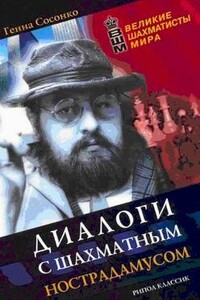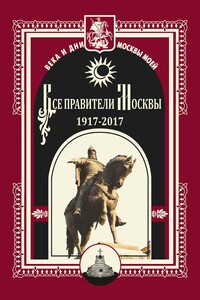«Я представлял, что выигрываю этот матч. А через 12–15 месяцев должен состояться матч-реванш. И я представил себе, что проигрываю реванш и просто физически, по времени не могу принять участие в новом цикле борьбы, поскольку в тот момент уже начинались бы следующие матчи претендентов… Всё это я высказал в интервью накануне последней партии».
Психологи знают феномен, входящий в личностную структуру невротического спектра индивидуума, называемый комплексом Поликрата: боязнь неприятностей, которые повлечет за собой восхождение на новую, более высокую ступень, бессознательное отторжение успеха, боязнь триумфа. Корчной просто не мог отрешиться тогда от постоянных мыслей об отборе, о кандидатских матчах, от всего, что составляло смысл жизни последних двух десятков лет.
Сама собой напрашивается параллель с Давидом Бронштейном: выигрывая матч с Ботвинником (1951), он много раз по ходу предпоследней 23-й партии мог добиться ясно ничейной позиции, мог сделать ничью и после неудачного хода, записанного Ботвинником, но, пройдя мимо всех возможностей, проиграл.
Его поведение до этой партии, да и после ее откладывания, свидетельствует о том, что он тоже не понял тогда огромной важности момента. Не осознал, что следует сделать самое последнее усилие, что надо сделать его именно сейчас, а не когда-нибудь в будущем, что следующего раза может и не представиться. Впоследствии Бронштейн давал различные объяснения невыигрыша того матча, но не был ли единственной причиной неудачи именно комплекс Поликрата?
Так и Корчной, четверть века спустя, вместо того чтобы отдать все силы решающей партии и думать только о ней, тревожился, что в случае победы и гипотетического проигрыша матча-реванша он не успеет принять участие в очередных претендентских матчах.
Уверен: если Карпов прочел то интервью, он получил дополнительный заряд энергии. А Корчной после безропотного проигрыша 32-й партии гарантировал себе… место в следующих претендентских матчах, войдя в привычное психологическое состояние.
А в самом конце, обозревая собственную карьеру, сказал совсем не чемпионскую фразу: «До сих пор не пойму, как удалось добраться практически до вершины…»
Победителя встречали на государственном уровне: море людей в аэропорту, транспаранты и здравицы в честь достойного сына советского народа, с честью выполнившего задание Родины, литавры военного оркестра, речи представителей всех слоев общественности, снова здравицы и цветы, цветы. Потом прием в Кремле, встреча с Брежневым, вручение ордена Трудового Красного Знамени (а после Мерано-1981 и высшей награды страны – ордена Ленина).
Трудно сказать, как закончился бы тот матч, играй оба выдающихся гроссмейстера просто в шахматы, без примеси зеркальных очков, йогуртов и йогов, скандалов с неподаванием рук, врачей-психологов, парапсихологов и медиумов, пресс-конференций, взаимных обвинений, оскорблений и многого, многого другого. Если бы всё решалось только в честной борьбе фигур на шахматной доске. Конечно, разница в двадцать лет – огромное преимущество, однако Корчной играл в Багио, по его собственным словам, как никогда в жизни, а в самом конце самочувствие у претендента было несравнимо лучше, чем у опустошенного физически и психически чемпиона.
Гипотетический вопрос, конечно. Случилось то, что случилось, и хотя три года спустя Корчной вновь завоевал право играть матч на первенство мира, он был только тенью яростного бойца в Багио, способного, казалось, совершить невозможное.
Уильям Фолкнер полагал, что каждого писателя следует судить по «мощи поражения», ставя в пример Томаса Вулфа, беспримерное мужество которого состояло для Фолкнера в том, что тот подчинялся лишь одному – «яростному стремлению к абсолюту и писал так, словно ему остается жить совсем немного». Виктор Корчной проиграл матч за мировую корону, но мощью своего поражения заслужил тогда уважение всего шахматного мира.
Когда Корчной играл второй матч за корону (Мерано 1981), ему уже исполнилось пятьдесят. Но дело было не только в возрасте: советская сторона вышла на новый, более качественный уровень подготовки, и речь шла не только о шахматной составляющей.