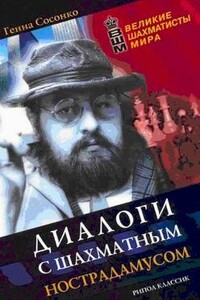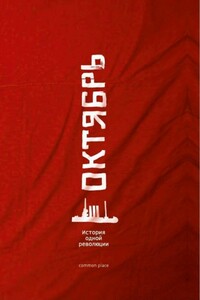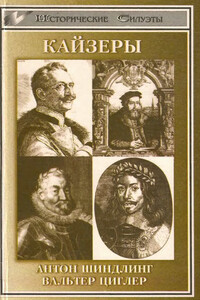Петра «заведовала» в его жизни всем, и Виктор, даже поругивая ее время от времени, доверял ей как никому другому.
Лев Полугаевский перед матчем с Корчным (Буэнос-Айрес 1980) долго зондировал в Спорткомитете вопрос – следует ли ему обмениваться рукопожатием с невозвращенцем. Получив в конце концов добро и протянув руку перед началом 1-й партии, Полугаевский так и остался стоять с протянутой рукой: Корчной сам не пожал ее. Помня о конфронтации с Петросяном, а потом и с Карповым и запутавшись во всех нерукопожатностях, кричал в телефонную трубку: «Петра, вы не помните, пожимали мы руки раньше с Полугаевским или не пожимали?»
Хозяйство тоже вела Петра, но образ жизни, едва ли не до последних инвалидных лет Виктора, они вели кочевой, колеся по свету. Корчной не отказывался ни от одного приглашения, и Петра почти всегда ездила с ним, стараясь оберегать от малейших забот. Часами высиживая в турнирном зале за книжкой или решением кроссвордов, она только время от времени поднимала голову, чтобы взглянуть на Виктора, а потом перевести взор на демонстрационную доску и начать считать фигуры в партии мужа. Нередко она оставалась в зале едва ли не последней: Виктор был не из тех, кто покидал сцену, пока не была досконально проанализирована закончившаяся партия, да и после этого нередко бродил по игровой площадке. Характерное, неординарное лицо, пронзительный взгляд, уложенная прическа, яркие эффектные платья, серьги и дорогие кольца на пальцах – на ней поневоле останавливался взгляд.
Петра стала для него не только подругой (официально брак был оформлен в 1992 году), но и секретарем, экономкой, менеджером, телохранителем и шофером. Помимо этого она исполняла роль налогового советчика, адвоката и даже секунданта на матчах за мировое первенство. При появлении госпожи Лееверик еще крепче сжимались желваки на скулах советских функционеров и журналистов, и в яростной борьбе с системой, отнявшей у нее десять лет жизни и не гнушавшейся никакими приемами, чтобы не позволить ее Виктору осуществить мечту жизни, она была совершенно непримиримой. Во время матчей за мировое первенство фамилия «злостной антисоветчицы» и «американской шпионки» не сходила со страниц газет Советского Союза.
Друг с другом они говорили по-русски и – так уж повелось – были на вы: Петра – вы, Виктор Львович – вы.
«Раньше я звала его просто Виктор, но когда услышала, как кто-то говорит Виктор Львович, мне это понравилось…» – вспоминала Петра, когда отшумели главные бои, и коллеги Корчного из России стали время от времени их навещать.
«Для меня Виктор Львович звучит так же официально, как Джон Фицджеральд Кеннеди, но если ей уж так нравится…» – притворно-осуждающе качал головой маэстро.
Несмотря на патронаж Петры, жизнь на Западе складывалась для Виктора трудно. Начинать всё заново непросто в любом возрасте, а ему как-никак уже стукнуло сорок пять. Эти сорок пять лет своего прошлого он нес с собой до конца, но прошлое это, что бы он ни писал о нем, несмотря на голодные и холодные блокадные годы, несмотря на все обиды и притеснения последнего периода, было не самим плохим. Когда кто-то, уже на Западе, спросил, знал ли он своего земляка, тоже бывшего ленинградца Иосифа Бродского, он только энергично вскинул плечи.
– Вы не понимаете! – воскликнул Корчной. – Я был богачом, обласканным, привилегированным, регулярно выезжавшим за границу, а кем был Бродский? И как мы могли встретиться?
В своей первой жизни Корчной знал признание, успех, славу, в Ленинграде оставалась его семья и те, с кем он провел молодые, да и зрелые годы. Не потому ли он любил цитировать поэта:
Не могу эту жизнь продолжать,
а порвать с ней – мучительно сложно;
тяжелее всего уезжать
нам оттуда, где жить невозможно.
Скульптор Эрнст Неизвестный, эмигрировавший из Советского Союза незадолго до бегства Корчного, прожив на Западе несколько лет, говорил, что всё еще чувствует себя ребенком. Ребенком Корчной себя не чувствовал, но и легко ему не было. Он попал в другую систему моральных и этических координат и избавиться от жесткой системы запретов, предписаний и умолчаний, понятной каждому в Советском Союзе без слов, ему было совсем не просто. Как Робинзон, очутившись на своем острове, не начинал новую жизнь, а старался восстановить старую, привычную, так и он с трудом отходил от пустивших глубокие корни представлений и привычек.