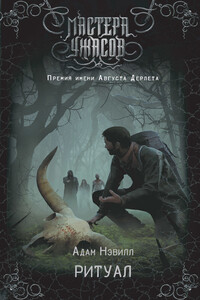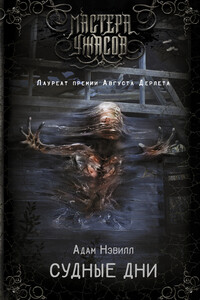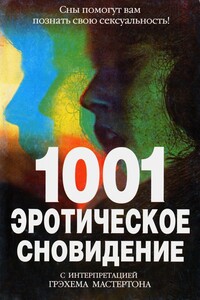Бурый Дженкин схватил Дэнни за ноги и протолкнул в люк с такой силой, что тот с криком скрылся из виду. Затем пролез вслед за ним, посыпая ступеньки градом вшей.
– Дженкин! – кашляя, прохрипел я. Но мне не хватало дыхания, чтобы подняться на ноги и броситься в погоню.
Он выглянул из люка, сопя и хихикая. Глаза у него были победоносно прищурены, желтые клыки обнажены. Между губ мелькал черный язык.
– Idiot-fucker du kannst mich niemals fangen! Adieu bastard cet fois for always! Merci pour ton fils! Was fur ein schmackhaft, Knabenicht warh fucker?[77]
– Дженкин, я убью тебя! – угрожающе прорычал я. Но голос мой звучал так слабо и глухо, что он вряд ли меня услышал.
– Теперь ты, Чарити, лезь наверх! – скомандовала Лиз и подтолкнула девочку к лестнице.
С невыразимо зловещей ухмылкой Бурый Дженкин высунулся из люка и протянул лапы с длинными крючковатыми когтями. Чарити смотрела на него широко раскрытыми глазами.
Со стороны чердачной лестницы послышался кашель. Продолжая стоять на коленях и держась за грудь, я обернулся и увидел Миллера, пытающегося разогнать руками дым.
– Ты! – закричал он Лиз. – Не трогай девочку!
– Сержант! – задыхаясь, произнес я. – Я не могу, – и указал на открытый люк.
Миллер поднял глаза и увидел Бурого Дженкина. Челюсть у него отвисла. Он слышал о Буром Дженкине, знал, что тот натворил. Но вид этого огромного жуткого грызуна так его напугал, что его, казалось, парализовало.
Жжение в груди начало ослабевать. Превознемогая боль, я сумел подняться на ноги. Лиз подняла Чарити на руки, чтобы Бурый Дженкин мог подхватить ее и затащить в люк. Чарити отбивалась ногами, сопротивлялась и кричала:
– Отпустите меня! Отпустите!
Но Лиз, казалось, обладала невероятной силой. Она поднимала Чарити все выше и выше, без видимых усилий, не обращая внимания на ее сопротивление.
– Ah, ma chere petite[78], – похотливо пускал слюни Бурый Дженкин. – I serve you mit kartoffeln und sauerkraut, oui?[79]
Тонким неуверенным голосом Миллер крикнул:
– Полиция! Вы арестованы! Отпустите девочку!
Бурый Дженкин зашелся таким хохотом, что ему едва не стало дурно. С челюстей у него свисали нити густой слюны с остатками наполовину прожеванной пищи.
– Арестованы, черт, черт! Was sagst du bastard? C’est drole, n’est-ce pas?[80]
Он выпустил когти, чтобы схватить Чарити, но в этот момент произошло нечто необычное. Чарити перестала сопротивляться и лягаться, она внезапно замерла и выпрямилась. Ее лицо словно окаменело. И, хотя это могло быть вызвано смесью дыма и серого дневного света, казалось, будто она засветилась. Ее волосы покачивались вокруг нее мягким извивающимся ореолом. Я мог поклясться, что она излучала яркий белый свет.
Лиз съежилась, как отступающая тень, и отпустила ее. Но Чарити осталась висеть в воздухе между полом и наклонным потолком, напряженная, неподвижная, – точно там, где Лиз ее отпустила.
Это было невозможно, но я видел это собственными глазами. Ноги Чарити зависли в добрых трех футах над полом чердака. Никаких ухищрений и шнуров. Ничего.
Бурый Дженкин медленно втянул обратно когти. Глаза его подозрительно прищурились, вытянутая морда ощерилась.
– Что это такое? – услышал я его шипение. – Что это?
Чарити повернулась в воздухе лицом к Лиз, глядя на нее широко раскрытыми глазами. Когда она заговорила, ее голос звучал неестественно мягко, словно тысяча рук гладила тысячу бархатных штор.
– Прочь, ведьма, – прошептала Чарити. Она подняла обе руки вверх, вытянула пальцы, закатила глаза, так что остались видны одни белки. – ПРОЧЬ, ВЕДЬМА! – повторила она. Слова звучали настолько невнятно, что я едва понимал их.
Потянулась минута невыносимого напряжения. Затем все одновременно пришло в движение. Лиз, пронзительно вскрикнув, рухнула на пол. Бурый Дженкин захлопнул люк и исчез. Чарити упала вниз, неуклюже приземлившись на ноги. Дым закружился, огни замигали. А Миллер очнулся от шока, словно пассажир поезда, проспавший свою станцию.
Я тут же взлетел по стремянке наверх и открыл люк.
– Дженкин! – закричал я. – Дженкин, верни моего сына!
Я высунул голову наружу и застыл от удивления. Темное зеленовато-желтое небо. Ряд голых, безлистных деревьев. Сад, в котором не было ни травы, ни кустов, ни цветов – ничего, кроме неровных рядов бледных склизких сорняков. Все вокруг было желтого или серого цвета. Других красок не было. Не слышно ни криков чаек. Ни жужжания насекомых. Ничего. На пляж вяло накатывали морские волны. Только вода почернела от нефти, а от грязной пены исходило слабое свечение. При одном взгляде на море становилось понятно, что рыбы в нем нет. По крайней мере нормальной рыбы.