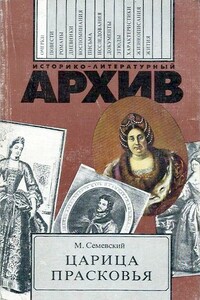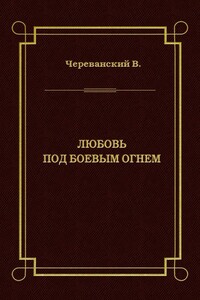Действительно, шум и беспорядок у самого церковного входа привлекли внимание готовившегося к службе иерея Сильвестра — народного любимца, выделявшегося из всего духовного сословия вдохновенным словом, — и он вышел на паперть. Узнав семью князя Сицкого и Захарьиных, он поманил Касьяна, чтобы тот перенёс не подававшую признаков жизни боярышню в церковный притвор. Тут её маме показалось, что Настя умирает, и она со слезами на глазах попросила иерея дать умирающей глухую исповедь и приобщить её святых тайн. Иерей, зная свою духовную дочь, счёл достаточным произнести во всеуслышание: «Господь, хранящий живых и мёртвых, прости её детские прегрешения». Затем, прикрыв больную епитрахилью, он удалил бесполезно толпившихся в притворе, кроме одной княгини, и вместе с ней стал ждать доктора, за которым поехал Лукьяш.
В это время приблизилась к шумной толпе группа охотников с великим князем во главе. На его вопросительный взгляд Касьян доложил, как всё произошло, и что теперь боярышня находится между жизнью и смертью. Глинский тоже выступил с оправдательным словом: «Я кричал — гайда, а они не послушались».
Недолго думая, Иоанн Васильевич вытянул своего дядю арапником, да так звонко, что ему пришлось укрыться в толпе от дальнейших приветствий. И только для поддержания своего достоинства он выкрикнул: «Ты забываешь, Иоанн Васильевич, что я твой дядя!»
— А ты забываешь, что я твой царь. Ты мне не дядя, а Ирод, избивающий младенцев, — произнёс вслед ему Иоанн Васильевич. — Кто тебе дозволил топтать людей насмерть? Смотри, есть суд строже моего — народный, насмерть разорвут, тогда и мне не спасти тебя. Где боярышня? В притворе? Глинский, становись на паперти на колени и стой пока боярышня не откроет глаза.
Войдя в притвор, Иоанн Васильевич увидел боярышню на парусинных носилках, что служили для переноски бездомных мертвецов. Лицо её было открыто и оживилось уже настолько, что вновь появился румянец. Иерей читал над её головой страницу из священной книги.
— Господи, и где это на Руси родится такая красота?! — произнёс без обиняков Иоанн Васильевич, — неужели она русская, какого она рода-племени?
— Дочь окольничьего Захарьина, родом от знатного тверитянина Кобылы. Она из всех моих духовных детей наиболее чистое дитя, да хранит её Господь. Совсем было помертвела, да видно Господь смиловался, — объяснил иерей Сильвестр. Явившийся доктор попросил присутствовавших не утруждать больную разговорами о ней. Великий князь обошёл больную с другой стороны и ещё полюбовался; она потянулась было поцеловать руку иерея, но Иоанну Васильевичу показалось, что она намерена поцеловать его руку, и тогда он в порыве нежности быстро овладел её рукой и жарко поцеловал, чем вызвал вопросительный и вместе с тем чарующий взгляд молодой девушки, какого он ещё никогда не видел.
Оставляя храм, Иоанн Васильевич пообещал иерею сан протоиерея, если только его молитвами у боярышни не окажется никакого повреждения, а доктора спросил по секрету: «Не слишком ли чувствительная натура у боярышни, не будет ли она и впредь пугаться из-за пустяков?»
— Ну, государь, когда конь долбит в голову копытами, это не пустяк! — отвечал умный англичанин. — Если лошадь навалится на человека, то и нечувствительный станет чувствительным. Могу сказать одно: через час она будет на ногах, так как крепость её натуры на диво московская!
Иоанн Васильевич пообещал англичанину большую золотую гривну, а с неё и московское боярство, если боярышня действительно встанет через час на ноги.
На паперти великий князь разрешил Глинскому подняться с коленей и как бы простил его, но простил так, что лучше бы тайно наказал.
— По твоему безобразному пьянству боярышня чуть не отдала Богу душу, за что по справедливости тебя следовало бы опустить из бояр в простолюдины, — заявил он громогласно, чтобы слышали все собравшиеся москвичи, — но во мне сейчас ликует дух милосердия. Оставайся до времени боярином, но садись на козлы и довези со всей бережностью боярышню до дома.
Честолюбивый Глинский был ошеломлён: такой каре не подвергался ни один из близких к престолу людей.