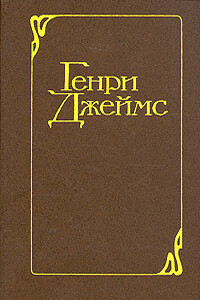Персонаж, выполнявший функцию «центрального сознания», был, как правило, одним из главных действующих лиц и как таковое обрисован со всей полнотой бытовых, социальных, психологических и прочих подробностей. Его видение обусловливалось свойствами собственного характера, особенностями и процессами собственной душевной жизни, которые, в свою очередь, обнаруживались в ходе повествования. Такое видение не могло обладать, и не обладало, определенностью и категоричностью, свойственными открытому анализу «всеведущего автора». Повествование, таким образом, обретало некоторую зыбкость, неопределенность, многозначность, разнонаправленность.
Видоизменялось и назначение прямой речи персонажей. Диалог использовался теперь не только для того, чтобы сообщить о прошедших, настоящих и будущих событиях и тем самым развертывать сюжет, или для того, чтобы давать непосредственный выход мыслям и чувствам героев и тем самым открыто показывать их внутреннюю жизнь. Слово героя приобретает дополнительные функции. Оно служит свидетельством душевных состояний, выступает как знак скрытых внутренних процессов. Прямая речь не столько раскрывает, сколько прячет глубинное движение мыслей и чувств, не столько обнажает их, сколько маскирует, побуждая к догадке, домысливанию, попыткам обнаружить сокровенные связи.
В 70-х и начале 80-х годов все эти сдвиги в характере повествования только намечались у Джеймса. Он понимал, что «драматизирует»[297] свою прозу. Тем не менее это был для него лишь один из возможных путей, но не единственный путь. Одна из лучших его психологических повестей – «Вашингтонская площадь» (1879) – была целиком написана в бальзаковской манере. Не ломал традицию открытого авторского анализа и роман «Женский портрет» (1881) – первый признанный шедевр Джеймса.
К началу 80-х годов Джеймсом был уже пройден длинный путь литературной работы – более пятнадцати лет. За эти годы он создал немало художественно совершенных произведений, и все же это были годы учения, ориентации в существующих литературных направлениях – поисков, которые еще не закончились. Джеймс еще не определился окончательно.
3
Осенью 1881 г., впервые за семь лет, прошедших со времени его отъезда в Европу, Джеймс совершил поездку в Соединенные Штаты. Он посетил Кембридж, где жили его родители, Бостон и Нью-Йорк, куда его звали литературные дела, и Вашингтон, где тогда выступал С лекциями Оскар Уайльд.
Американские нравы, которые он теперь после длительного отсутствия оценивал в значительной мере со стороны, показались ему еще менее привлекательными, чем прежде. «Да простит мне бог, но я чувствую, что безобразно теряю здесь свое время»,[298] – сетовал он. Именно в этот его приезд намечавшееся уже прежде решение остаться в Европе стало окончательным. «Мой выбор – Старый свет. Мой выбор, моя нужда, моя жизнь!»[299] Смерть матери в начале 1882 г. и отца осенью 1883 г. обрывала семейные нити, соединявшие его с родиной. Остальные связи не представлялись ему существенными.
В конце 1883 г. Джеймс вернулся в Лондон. На этот раз его путешествие за океан было экспатриацией, в полном смысле этого слова. И хотя номинально он сохранял американское гражданство и даже, возможно, продолжал ощущать себя «американцем в Европе», фактически его отношения с родиной становились все отчужденнее. Он укоренялся в Англии и постепенно основательнее входил в ее литературную жизнь. Последующие два десятилетия его творчества в значительной мере связаны с развитием английской литературы «на рубеже веков».[300]
В 80-е годы по монолитному зданию английского викторианства пошли первые, еще не заметные невооруженным глазом трещины. В литературе они обнаружили себя прежде всего в романе, который начиная с 30-х годов оставался ведущим жанром. Во второй половине столетия реалистические традиции Диккенса и Теккерея под пером их преемников подверглись значительному изменению. У Троллопа, Рида, Коллинза, не говоря уже об их менее значительных и менее талантливых современниках и последователях, роман стал в основном занимательным чтением. Повествовалось ли в нем об усредненной повседневности, как у Троллопа, или о семейных мелодрамах и преступлениях, как у Рида и Коллинза, острые сюжетные повороты, морализаторство и дидактика были для него непреложным законом.