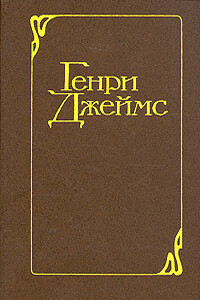украшали фрески Караваджо,
[144] а под величественными сводами просторной лоджии, окружающей сырой двор с бьющим фонтаном в замшелой нише, выстроились в ряд изувеченные статуи и пыльные урны. Не будь Розьер в столь озабоченном расположении духа, он мог бы, вероятно, отдать должное палаццо Рокканера, мог бы проникнуться теми же чувствами, что и миссис Озмонд, сказавшая ему как-то, что, решив поселиться в Риме, они с мужем избрали это жилище из любви к местному колориту. Местного колорита в нем было более чем достаточно: являясь таким великим знатоком лиможских эмалей, но отнюдь не архитектуры, Розьер тем не менее улавливал несомненное величие и в пропорциях окон, и даже в деталях карнизов. Но его преследовала мысль, что в красочные исторические эпохи юных девушек держали взаперти, чтобы разлучить с любимыми, и. угрожая заточением в монастырь, вынуждали иногда вступать в омерзительные браки. Правда, одному Розьер неизменно отдавал дoлжнoе всякий раз, как оказывался в расположенных на третьем этаже теплых блистающих великолепием гостиных миссис Озмонд: он признавал, что хозяева дома знают толк в «хороших вещах». Во всем чувствовался вкус самого Озмонда, миссис Озмонд была к этому непричастна, так, во всяком случае, она сама заверила его во время первого визита, когда после пятнадцатиминутной внутренней борьбы, твердо сказав себе, что их французские приобретения лучше – и намного, – чем у него в Париже, и подавив в себе, как и пристало истинному джентльмену, зависть, он выразил хозяйке дома теперь вполне уже от чистого сердца свое восхищение ее сокровищами. Вот тогда миссис Озмонд и поведала ему, что муж ее собрал большую коллекцию еще до того, как на ней женился, и что, хотя за последние три года коллекция его пополнилась несколькими прекрасными вещами, лучшие его находки относятся к той поре, когда он не мог еще воспользоваться ее советами. Розьер истолковал эти сведения по-своему: слово «советы» он мысленно заменил словами «звонкая монета», а то обстоятельство, что наибольшие удачи Гилберта Озмонда пришлись на время его безденежья, принял как подтверждение своей излюбленной теории, которая гласила: было бы у коллекционера терпение, а все остальное приложится. Появляясь здесь по четвергам, Розьер обычно прежде всего удостаивал вниманием стены большой гостиной: там висело несколько предметов, по которым тосковал его взор, но после разговора с мадам Мерль он оценил всю серьезность положения и потому, войдя, стал тут же отыскивать глазами юную дочь хозяина дома, вложив в это занятие столько пыла, сколько может позволить себе молодой человек, который, переступая порог, улыбкой своей выражает уверенность в том, что все обстоит как нельзя лучше.
Пэнси в первой гостиной не оказалось; в этой огромной комнате со сводчатым потолком и затянутыми старинной алой камкой стенами сидела, как правило, миссис Озмонд, – сегодня она, правда, покинула почему-то свое обычное место; здесь же у камина собирался кружок завсегдатаев дома. Комната, вся мерцавшая в мягком, рассеянном свете, наполнена была самыми крупными из коллекции вещами и почти всегда – благоуханием цветов. Пэнси, скорее всего, находилась в следующей из расположенных амфиладой гостиных, где собирались гости помоложе, где подавали чай. Озмонд стоял спиной к камину и, заложив назад руки, приподняв согнутую в колене ногу, грел ее. Пять-шесть человек гостей, расположившись вокруг, о чем-то беседовали, но он в их разговоре участие не принимал; в глазах его застыло весьма характерное для них выражение, долженствующее, по всей вероятности, означать, что они заняты созерцанием предметов более достойных, нежели эти навязанные им докучные лица. Розьер, о чьем приходе никто не доложил, тщетно пытался привлечь к себе внимание хозяина дома; молодой человек привык строго соблюдать этикет, и, хотя он больше чем когда бы то ни было сознавал, что явился с визитом к жене, а не к мужу, направился к Озмонду, желая с ним поздороваться. Тот, не меняя позы, протянул ему левую руку.
– Мое почтение. Жена где-то тут.