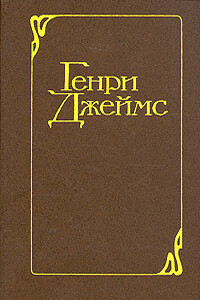– А вы – француженка? – спросил джентльмен.
– Да, сэр, – ответила гостья тихим голосом. – Я говорю с воспитанницами на моем родном языке: других я не знаю. Но наши сестры – из разных стран – есть и англичанки, и немки, и ирландки. Каждая говорит на своем языке.
Джентльмен улыбнулся:
– Кто же смотрел за моей дочерью? Уж не ирландка ли? – И увидев, что гостьи заподозрили в его вопросе какую-то каверзу, смысл которой им непонятен, поспешил добавить: – Я вижу, дело поставлено у вас превосходно.
– О да, превосходно. У нас все есть, и все самое лучшее.
– Даже уроки гимнастики, – осмелилась вставить сестра-итальянка. – Но совсем не опасные.
– Надеюсь. Это вы их ведете?
Вопрос этот искренне рассмешил обеих женщин; когда они успокоились, хозяин дома, взглянув на дочь, сказал, что она очень вытянулась.
– Да, но, пожалуй, больше она не будет расти. Она останется небольшой, – сказал сестра-француженка.
– Меня это не огорчает. На мой вкус женщины, как и книги, должны быть хорошими, но не длинными. Впрочем, не знаю, – добавил он, – почему моя дочь маленького роста.
Монахиня слегка пожала плечами, словно давая понять, что такие вещи не дано знать человеку.
– У нее отменное здоровье, а это главное.
– Да, вид у нее цветущий, – подтвердил отец, окидывая девочку долгим взглядом. – Что ты там нашла в саду, дорогая? – спросил он по-французски.
– Цветы. Их там так много, – отвечала девочка своим нежным, тонким голоском, говоря по-французски с таким же безупречным выговором, как и ее отец.
– Да, только хороших немного. Впрочем, какие ни на есть, а ты можешь собрать из них букеты для ces dames.[82] Ступай же.
Лицо девочки засияло от удовольствия.
– Можно? Правда? – повернулась она к отцу, улыбаясь.
– Я же сказал тебе, – ответил отец. Девочка повернулась к старшей монахине:
– Можно? Правда, ma mére?[83]
– Делай, как велит тебе мосье, твой отец, дитя, – сказала монахиня, снова краснея.
Девочка, успокоенная санкцией своей наставницы, спустилась по ступеням и исчезла в саду.
– Однако вы их не балуете, – заметил отец, посмеиваясь.
– Они всегда должны спрашивать позволения. Такова наша система. Мы охотно даем его, но сначала они должны попросить.
– О, я вовсе не против вашей системы. Она, без сомнения, превосходна. Я отдал вам дочь, не зная, что вы из нее сделаете. Отдал, веря вам.
– У человека должна быть вера, – назидательно сказала старшая сестра, взирая на него сквозь очки.
– Значит, моя вера вознаграждена? Что же вы из нее сделали?
– Добрую христианку, мосье, – сказала монахиня, потупив глаза. Мосье тоже потупил глаза, но, пожалуй, по иным причинам:
– Это прекрасно. А что еще?
Он уставился на монашенку, ожидая, возможно, услышать, что быть доброй христианкой – венец всех желаний; но при всем своем простодушии она вовсе не была настолько прямолинейна:
– Очаровательную юную леди, маленькую женщину, дочь, которая украсит вам жизнь.
– Да, она кажется мне очень gentille,[84] – сказал отец. – И прехорошенькая.
– Она – само совершенство. Я не знаю за ней ни одного недостатка.
– У нее их и в детстве не было, и я рад, что она не приобрела их у вас.
– Мы все ее очень любим, – с достоинством сказала монахиня, блеснув очками. – А что до недостатков, как может она приобрести у нас то, чего мы не имеем? Le couvent n'est pas comme le monde, monsieur.[85] Она, можно сказать, дочь наша. Ведь мы печемся о ней с самых малых ее лет.
– Из всех, кто покинет нас в этом году, больше всего мы будем сожалеть о ней, – почтительно пробормотала сестра помоложе.
– Да, мы еще долго будем поминать ее добрым словом, – подхватила первая. – Ставить другим в пример.
При этих словах добрая сестра вдруг обнаружила, что очки ее затуманились, а вторая монахиня после секундного замешательства достала из кармана носовой платок из какой-то неимоверно прочной ткани.
– Возможно, она нынче не покинет вас; пока еще ничего не решено, – поспешил откликнуться отец – не столько с тем, чтобы предупредить их слезы, сколько торопясь высказать свое искреннее желание.
– Мы будем только счастливы. В пятнадцать лет ей слишком рано уходить от нас.