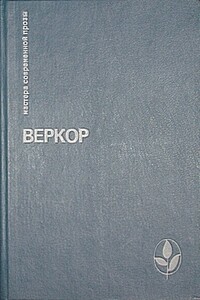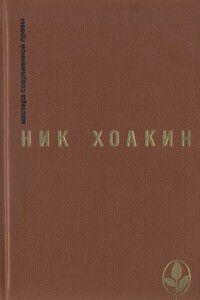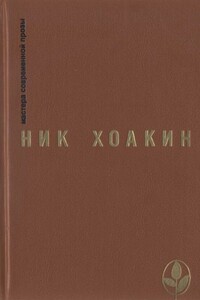— Уладим все на месте. У меня там есть знакомые.
Да, подумала она, все надо уладить на месте, но теперь она не боялась решений, которые ей придется принимать в мире, где каждый день — понедельник. Она посмотрела на его коричневые руки, лежащие на столе, и вспомнила о разбитой машине, которая валялась в прибрежных скалах. Так много разрушено, так много еще предстоит разрушить, чтобы появилась на свет женщина, которую она сейчас видела в мыслях гуляющей по созданному ее воображением Макао: мощенные булыжником улицы, бегущие вверх к собору, белые дома на скалистом берегу, деревья, цветущие на фоне голубого неба, — утром в Макао будет весна. Она ждала наступления этого утра, но не страстно, не отчаянно, сейчас она просто отдыхала после долгого-долгого дня, оттягивая момент, когда нужно будет сделать шаг, который превратит ее в ту, другую, женщину, чье лицо она сейчас мысленно видела озаренным солнечным светом. Она не сомневалась, что последствия содеянного ею будут ужасны, что завтрашний день принесет боль и страдания, что мир будет лежать в руинах. Но она сама приговорила себя к этому, когда отказалась рухнуть вместе с машиной с обрыва; и, какие бы последствия ни вызвал ее отказ умереть, она без колебаний приняла этот мир таким, каков он есть. Сейчас ничто ее не трогало — ее переполняла безмятежность; но завтра я буду совсем другой, в полудреме подумала она, доедая яичницу и подливая себе кофе. Коричневые руки, на которые она смотрела не отрываясь, вдруг исчезли со стола, а потом появились вновь, предлагая ей сигарету и горящую спичку.
Наклонившись, чтобы прикурить, она кивнула в сторону стойки:
— У него, наверное, найдется бумага и конверт.
— Зачем тебе?
— Я должна написать письмо.
— А! Твоему… твоей семье?
— Нет. Я хочу написать Пепе Монсону.
— Ты ему напишешь обо всем?
— Надо же кому-то сообщить. Видишь ли, я где-то там разбила очень дорогую машину.
— Да, вероятно, кому-то надо сообщить.
Она перевела взгляд с коричневых рук на его неподвижное лицо.
— А тебе не надо никому написать, Пако?
— Нет, — ответил он, вставая из-за стола. — Пойду пока узнаю насчет катера.
Когда он вернулся, письмо уже было написано; она поднялась и попросила хозяина кафе отправить его. Катер ждал их, но она медлила, закутываясь в меха, а он медлил, расплачиваясь по счету. Они стояли возле стойки, и оба, каждый по-своему, тянули время, не желая расставаться с покоем, который обрели здесь, словно это маленькое кафе было раем, а за его дверьми начиналась грешная земля. Уже в дверях они внезапно остановились и одновременно заговорили.
— Хотим ли мы этого? Ты действительно хочешь уехать? — спросила она.
— Мы ведь знаем, что делаем, верно? — спросил он.
И в их глазах угасла юность, когда, чуть помедлив, оба ответили друг другу «да». Он снял с себя и надел ей на голову свою шляпу, они вместе толкнули вперед створки двери. И неожиданно будто само море ударило им в лицо. Задыхаясь, они ощупью нашли руки друг друга и вместе нырнули в шторм, пробираясь по гудящей от ветра улочке к причалу, где плясал на волнах катер. В эту минуту Кикай Валеро неслась через Гонконг сквозь знаменующий начало весны бурный дождь сообщить Конче Видаль, что та в любой момент должна быть готова услышать, что тело ее утонувшей дочери найдено.
— И кроме того, — сказал Пепе Монсон, отрывая взгляд от письма, — тут есть еще приписка для тебя, Тони. Слушай: «Пожалуйста, передайте падре Тони, что, к сожалению, у меня не хватило духу поступить правильно, но он знает, что такие люди, как я, должны собрать всю свою храбрость, чтобы вообще решиться на какой-то шаг, пусть даже неправильный, и, найдя в себе смелость сделать то, что я сделала, я, может быть, когда-нибудь решусь и на правильный шаг».
— И она решится! — воскликнул падре Тони, вскакивая с дивана. — Обязательно!
Сложив руки на груди, Рита Лопес повернулась к ним.
— Решится на что? — холодно спросила она. — Решится поступить правильно?
— Но она уже и так поступила правильно, — сказал падре Тони.
Риту передернуло, но она не ответила.
— Сейчас мы не знаем, что для нее правильно, а что нет, — сказал Пепе.