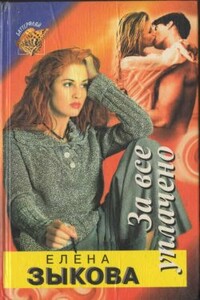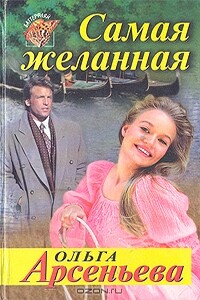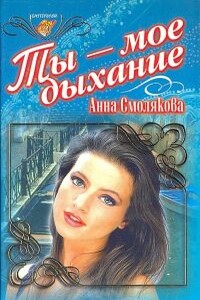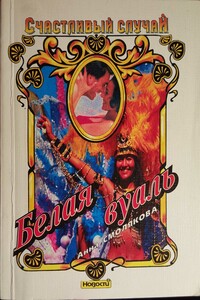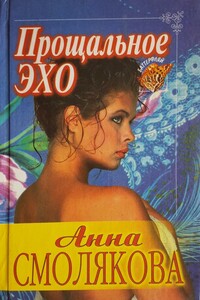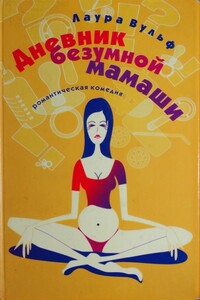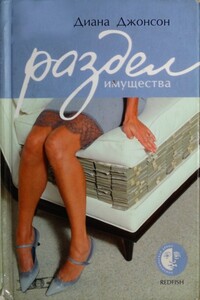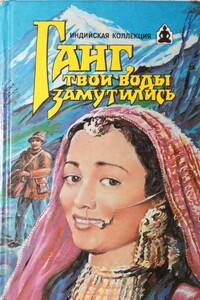Селезнев опустился в противно скрипнувшее кресло и принялся задумчиво изучать собственную ладонь. Но боковым зрением он все равно видел орлиный грузинский профиль старика и блики прожекторов, играющие на его обширной лысине. Минут через пять Семен Александрович действительно объявил перерыв. Актеры с облегчением поползли в курилку, так как смолить в зале никому, кроме главрежа, не позволялось. Сцена опустела.
— Ну, садись, Сереженька, поговорим, — старик похлопал ладонью по ближайшему к себе сиденью. — Есть у меня одно интересное предложение… Я вот думаю, не взяться ли нам ближе к весне за «Игру теней»? И не попробоваться ли тебе на Антония. Хотя, что пробоваться, я просто уверен, что у тебя получится.
Селезнев саркастически усмехнулся и кивнул:
— Опять красавец в львиной шкуре с босыми ногами и страстным взглядом, да?
— Да, — подтвердил Семен Александрович. — Только не надо утрировать. Я не понимаю, чем бедный Антоний тебе не угодил? Роль, между прочим, не простая.
— Семен Александрович, когда вы мне скажете насчет «Дон Жуана»?
Главреж поморщился, протер клетчатым носовым платком начинающие слезиться старческие глаза и потянулся за новой сигаретой. Руки у него были большие, сморщенные, сплошь покрытые коричневыми пигментными пятнами. И Селезневу вдруг захотелось немедленно исчезнуть, чтобы не мучить этого больного старика. Ведь и так ясно, что ничего хорошего он сказать ему не может.
— Понимаешь, Сережа, роль Дон Жуана я все-таки решил отдать Войтову…
Сергей молча кивнул и поднялся с кресла, но Семен Александрович остановил его неторопливым, но властным жестом:
— Подожди, я еще не закончил. Ты думаешь, что с тобой поступили несправедливо, что тебя обошли, но нужно ведь думать и о Зрителе. Думать о том, для чего мы, вообще, работаем… Я ни секунды не сомневаюсь в том, что ты хороший, талантливый мальчик, но…
— Что, «но»? — не выдержал Селезнев. — Я же играл Гамлета. И играл хорошо, вы не можете этого отрицать. Почему же теперь мне не дают хоть сколько-нибудь серьезных ролей? Я что, стал глупее, холоднее, бездарнее?
Главреж печально покачал крупной головой и глубоко затянулся:
— Сережа, я все понимаю, время такое, что нужно уметь зарабатывать деньги, и ты сделал свой выбор… Ведь Гамлета ты сыграл до Барса, правда? И до Корсиканца, и до всех этих Меченых, Психованных, Калеченых?.. А теперь, если бы ты вышел на сцену в этой роли, зрители бы, в лучшем случае, смотрели на тебя как на диковинную зверюшку и искренне удивлялись: «Надо же, а он ведь еще и неплохой актер!»… Они должны сопереживать происходящему на сцене, а не думать о том, что артисту черная хламида идет ничуть не меньше, чем кимоно…
Селезнев нервно хрустнул костяшками пальцев:
— Но ведь ходят же зрители на Гафта, на Фрейндлих. На пианиста Диму Маликова же, в конце концов, ходят!
— А ты бы хотел, чтобы на тебя ходили, как на пианиста Маликова? Нет, я ничего не хочу сказать, он, возможно, прекрасный музыкант. Но ценит его исполнительское мастерство небольшая кучка меломанов, а остальные идут поглазеть, как известный певец занимается «серьезной музыкой». Тебе бы этого хотелось?.. К сожалению, Сережа, придется подождать, пока с тебя сойдет эта «плакатность» и народ подзабудет, как ты замечательно умеешь махать ногами… Все, извини, перерыв заканчивается.
Семен Александрович снова захлопал в ладоши, созывая артистов на сцену, а Селезнев встал и быстро пошел к выходу. Настроение у него было хуже некуда, и номер этой самой Юли он набрал скорее машинально. А когда на том конце провода раздался ее чистый и немного напряженный голос, он хотел даже повесить трубку. Слишком уж многое в его жизни сломал этот треклятый Барс, чтобы изображать его для какой-то свиристелки Впрочем, может быть, было бы и лучше прервать так и не начавшийся толком разговор. Потому что настроиться на легкий флирт, постепенно переходящий в горячий секс, так и не удалось. Разговор в кафе получился тяжеловесным и ни на йоту не приближающим к постели. А возле ее подъезда они так и вовсе разругались. И, глядя на торопливо удаляющуюся Юлькину фигуру, Сергей почувствовал что-то похожее на укор совести. Хотя, скорее всего, это была отнюдь не пробудившаяся совесть. Потому что это же, десятикратно усилившееся, чувство заставило его ночью ворочаться в постели, не находя себе места, сминая подушку и представляя Ларисины разведенные колени…