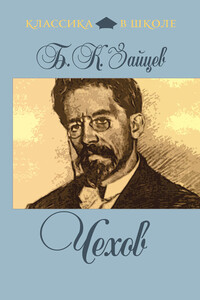Земная печаль: Из шести книг - страница 87
Иногда мы садились на верхушку омнибуса у «Одеона» и ездили кататься по Парижу. Лизочка прижималась ко мне, точно жутко ей было среди этих тысяч людей, фиакров, автобусов, мчавшихся во все стороны, — но и занятно движение необычайного города. На rive droite я покупал ей конфеты — так уж это было заведено, — и назад мы катили по метро — тоже нечто, заставлявшее Лизочку обмирать. Но когда пролетали над Сеной, она восторженно всматривалась в Эйфелеву башню: там я почувствовал, до какой степени в духе детей эта башня.
Между тем Анета, как мне казалось, стала замечать, что не все ладно в нашей жизни, то есть вернее — в моей. Несколько раз даже спрашивала она: «Что с тобой, Александр?» Я не очень был расположен говорить, да и тем положение мое было неудобно, что я не умел выразить в точной форме предмета своего недовольства. Анета же любила точность. В конце одного нашего разговора она вдруг вспыхнула и сказала: «Ну да, понимаю… ты просто разлюбил меня». Это было неверно, нескладно, и по–женски, но раз она додумалась до такой вещи, сбить ее почти нельзя было. Тут я почувствовал, что нам нанесен сильный удар. «Я понимаю, — говорила Анета, и глаза ее блестели по–новому, как‑то холодно, чуждо, —тебе просто со мной неинтересно, потому ты уходишь куда‑то, потому ты изменился». Я старался ее разубедить, но она замыкалась, твердила: «Оставь» — с таким видом, что вся моя энергия падала. Раз, вернувшись откуда‑то, я застал ее лежащей на диване, головой в подушку. Я присел к ней и хотел поцеловать в шею, как делал некогда женихом, но она вскочила — глаза ее были заплаканы и прекрасны, — молния блеснула в них; она крикнула:
— Уйди! Все пропало! Я тебя тоже не люблю. Все пропало, все, все!
Она пробежала к себе в комнату и заперлась. Вечером прислала мне письмо, где было больше печали и чувства, чем я склонен был ожидать. Она писала, что давно уже, почти со времени рождения Лизочки, стала замечать во мне перемену, — очевидно, она прискучила и не может дать той жизни, которая мне нужна. Ввиду этого она предоставляет мне свободу действий, иесли я, быть может, кого‑нибудь люблю, чтобы я сказал прямо: мы разойдемся. Ночь мы оба почти не спали. А на утро было объяснение, убедившее Анету, что я никого, кроме нее, не люблю и не любил. Но полного мира оно не дало, ибо остались у нас какие‑то рифы, темные и опасные пункты, к которым оба мы не решались приблизиться.
Началась жизнь, которая была, конечно, хуже прежней, так как ушло из нее всякое тепло и ласка. Анета видимо тяготилась домом и искала случая уйти куда‑нибудь, и как можно на дольше. Появилось у нас некоторое запустение, чего раньше не было. Анета не интересовалась даже Лизочкой, и та приходила делиться школьными радостями ко мне: за диктовку она получила четыре, а за «держание» — так она называла поведение — пять.
— Отчего нет мамы? — спрашивала она.
— Мама в русской колонии. Там сегодня вечер.
— А ты почему не в русской колонии?
Я не мог объяснить ей, что дело не в русской колонии, а что мама тоскует, да и отец тоже. И, уложив ее спать, я садился и ждал Анету.
Снова и снова задавал я себе вопрос: что же, как же? Устраивается ли моя жизнь, или разрушается? Что она начала разрушаться — это я видел на каждом шагу. Что выйдет из этого — не мог предвидеть, и помню, что меня тянуло в такие вечера к Евангелию. О, какая это странная книга! Я никогда не был мистиком, а Евангелие ценил как-то холодновато: может быть, оно слишком было затемнено еще со школьных времен. Но теперь, когда я перечитывал давно забытые, удивительные слова, мне вдруг стало казаться, что это, правда, сверхъестественное писание. Я читал когда‑то диалоги Платона, и Сократ, к которому душа моя никогда особенно не лежала, был мне весь виден, весь ясен, как и его ученик; ясны были и величайшие поэты — Гете, Данте. Кто же собственно Христос? Этого я не вмещал. Я только чувствовал, что сердце мое открывается необычайному сиянию Евангелия — вероятно, вечному сиянию, — покорявшему миллионы — быть может, именно тогда, когда начинали они терять истинный жизненный путь. Ибо за всем грохотом культур, войн, переворотов и цивилизаций есть еще малая вещь — человеческое сердце, которое ищет незыблемого всегда, сколько бы ни опьяняли его успехи и движение жизни. Такой вечно живой водой представлялось мне Евангелие. Если оно не указывало точного пути (или я не умел определить его), то, во всяком случае, подымало и возвышало необыкновенно. И утешало.