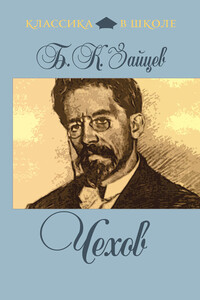Феллин хотел съязвить, но вдруг опустился, поблек.
— Остришь тут с вами, смеешься, п–ф-ф… — а в сущности мне мало дела до всего этого. И Горичи мне ваши не нужны.
Он согбенно прошелся.
— Да, он приедет скоро. А я вам должен сказать, — как женщине доброй — вы знаете, я ужасно устал? Мне вот все это, — он кивнул на декорации, подмостки, — ужасно надоело. Приходишь домой, и такое настроение… взял бы гвоздь, вбил, и… — Он глупо усмехнулся. Анна Михайловна взглянула на него серьезно. — И… — Феллин вдруг высунул язык и вытаращил глаза.
— Фу! Бросьте!
Он провожал ее, дорогой говорил все то же.
— Бесцельная жизнь. Ролей нет, выбиться не дают. Представьте себе — до могилы все ждать чего‑то. Человеку сорок два, он один, как карандаш, живет в отеле. «По–нашему — в меблированных комнатах…»
— Да, и размышляет.
— Вы холостой?
— Абсолютно. Жена, дети… Это дурно. Знаете, маленькие эти клопы, — он брезгливо вытянул руки, — пеленки… гадость.
Они простились. Взглянув на его худую спину, — она почувствовала к нему добрую, человеческую жалость. Казалось, что его дни кончены.
Потом мысли ее перешли на Горича. Как всегда, что‑то сладостное, стыдливое охватило ее. Не хотелось домой. Забраться бы в поле, снежную равнину с звездами, — снова повторять о своей любви, плакать. «Отчего не сказала я ему больше — как он прекрасен, как рвется моя грудь от восторга? А может, это ему неприятно, он уехал поэтому? Вряд ли. Что сделала я дурного?»
«Я уже не молода, — думала она дома, — и, значит, никогда до сих пор не любила. Оттого так нелепа моя любовь».
Потом достала Тютчева и, бродя, твердила стихи.
На другой день на репетиции была рассеянна; играть не хотелось, она с удовольствием слонялась в антрактах.
О, как на склоне наших лет Нежней мы любим, и суеверней…
Сияй, сияй, прощальный свет Любви последней, зари вечерней![121]
— Да, Киев меня любит. В прошлом году: знакомых никого, пресса чужая — что ж вы думаете, на тринадцатом представлении венок. Отзывчиво, как‑никак.
— Это, по–моему, просто подлость. Как только я лицом к публике, она меня загораживает.
Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край…
День вечерел. Мы были двое,
Внизу, в тени, шумел Дунай
[122].
— Женя, десять раз говорил: если не умеешь ставить в четверть часа, нечего этим и заниматься.
И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные слетал
[123].
Где эти яблони, Дунай? Ей казалось, что сейчас она шагнет в волшебную страну, но вокруг были плотники, статисты, Платон, Феллин, Горбатов — сердце останавливалось.
X
Между тем спектакль близился. В театре были возбуждены — это важный день: многое он решит. По мере его приближения Анна Михайловна мрачнела.
Когда же пришел он — такой же, как и все для других, осаждаемых своими заботами, — она с утра пала духом. Как одиноко! Ни Эммы, ни Горича.
Вечером война — и ни одного человеческого лица. В семь она была в театре. Горбатов стоял у телефона.
— А? Не приедет? Это невозможно. Нет, будьте добры доставить как угодно. — Зачем? Это успеху содействует, разве вы не понимаете? Пьеса без автора! Нет, пожалуйста!
Анна Михайловна усмехнулась: «Успеху содействует».
— Контрамарок нет, премьера. Раз навсегда.
— Платон Николаич, с корреспондентским!
— Так бы и говорили. Третий ряд.
Увидев Анну Михайловну, Горбатов улыбнулся, поцеловал руку; но по глазам она почувствовала, что он боится.
— Ну, ангел, в добрый час.
Первый акт шел вяло. Анна Михайловна сразу поняла, что плоха. «К чему все это? — думала она, стоя у боковой двери. — Я играю в нелепой пьесе, держусь позорно». Было мгновение, когда ей показалось, что сейчас надо уйти уж совсем, спрятаться. Но, конечно, она выходила и читала, что нужно. Приняли холодно, лишь Машеньке поднесли букет.
Горбатов обозлился.
— Дитенок, не годится. У нас не Кинешма, чтобы с первого акта подношения принимать.
Когда начался второй, он потянулся, как бы в усталости, отрезал:
— Дана[124].
Анна Михайловна едва сдерживалась. Она взяла сразу на тон горячей. Выходило странно — и только. «Что со мной? Отчего?» Она напрягла всю волю — все же она не дебютантка, и едва себя одолела. В публике тоже что‑то началось. Видимо, не нравился эс–эр.