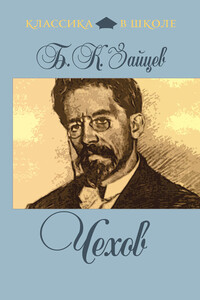Раз осенью, в такой же дождливый вечер Женя стоял с Настасьей у окошка. У него на губе был лишай, огник, как говорила Настасья. Он смотрел на огонек в избушке караульщика у погоста и повторял за Настасьей машинально: «Огонь, огонь, возьми огник, огонь, огонь, возьми огник». Ему было скучно. Непонятная тоска сжимала сердце.
— Теперь отплюнься: раз плюнь, два, и соскочит.
— Почему же соскочит?
— А уж потому. Увидишь.
Жене было все равно. Может быть, и соскочит. Он водил пальцем по стеклу и всматривался.
— Слушай, — сказал он, — а что сторож там делает?
— Сторож‑то?
— На погосте.
— Значит, краулит.
Женя молчал.
— Кого ж караулить? Все покойники.
— Так уж, значит, краулит.
— А что, — вдруг спросил он, — когда мы умрем, нас туда же положат?
— Тебе‑то еще долго жить, — сказала Настасья, вздохнула.
Больше Женя не спрашивал. Он стоял, упершись лбом в стекло, и думал. Что там такое будет? Пройдет десять, двадцать, пятьдесят лет — он станет такой же старенький, как эта Настасья, а где будет тогда Настасья? Где мама будет? «Мама!» — чуть не закричал он. Ледяная мысль пронзила его. Что будет с мамой? Вдруг умрет мама теперь же, через месяц, год? Этого он не мог вынести; как стоял у окна — залился долгим плачем, долгим, неутешным.
Прибежала мама, его ласкали, утешали; он ничего не говорил. В ужасе держался за мать, плакал, не переставая твердил: «Мама, мама!»
Много раз с тех пор, в зрелые годы, думал он об этом, но тот вечер, когда впервые был поставлен такой вопрос, — тот осенний мрачный вечер с огоньком на кладбище нельзя было вычеркнуть ничем.
VII
Для человека в десять лет «мама» обнимает три четверти жизни. Встает ли он утром, учит ли немецкие слова, ест ли за завтраком котлетку с огурцом, сражается ли с сестрой в свои козыри, охотится ли, слушает ли сказку, ложится ли спать, страдает ли, здоров или болен — всегда, на всех путях его маленькой жизни за ним следит светлый дух — мама. Быть может, ее нет в тот, иной момент. Она может уехать в гости, уйти в амбар, на птичник — но это ничего не значит. Ее можно найти, прибежать к ней, разрыдаться в ее объятиях, если случилось что‑нибудь ужасное — например, убили любимую собаку, или кучер обидел друга Романа. Но у ней будет найдено утешение и защита. Мама не может быть несправедливой. Если друг Роман действительно невиновен, — кучер понесет свою кару.
Когда маленький человек заболел, на ее лицо ложится тень. Мама спокойна, сдержанна, но волнуется. Посоветовавшись с фельдшером Астахом, она даст хины, положит компресс chauffant[101], смеряет температуру черненьким термометром — под ее умелыми руками не может болезнь не поддаться. А глухой ночью, когда от жары начнется кошмар, она наклонится, в белой кофточке, возьмет к себе на постель, и при ней духи тьмы не осмелятся приблизиться.
И первая, кому радуется и кого любит выздоравливающий ребенок, это та же мама. По ее лицу он видит, что прошло тяжелое и вновь пойдут утра и игры, ясные зимние дни, коньки, лыжи, белые морозы и иней.
В большом доме, где копошатся дети, снова и постоянно проходит светлым видением она — далекая от радостей, ясная, вся в любви мама.
VIII
Зима! Это значит, что все завеяно ровным белым снегом, остро вкусен воздух, небо приятно–свинцового тона и летают вороны. Это значит, что для детей настал новый ряд радостей — зимняя жизнь и зимние удовольствия, лыжи, коньки, салазки, а вдали, где‑то на границе двух годов, — Рождество.
С новым сезоном столяр Семиошка получает новую работу: должен подмораживать скамьи для катанья.
Дети забирались в мастерскую — там пахло клеем, древесными стружками, было жарко и работал старик Семен с веревочкой вокруг головы.
— Дядя Семиоша, а дядя, пора!
— Сделал бы скамеечку!
— Значит, не могим. Значит, барину полозья выгнем, и значит, тогда изготовим.
Но, конечно, он уступал и, намазав низ скамьи навозом, поливал водой. Получалась ледяшка. Дети бежали к друзьям, на деревню; друзья тащили самодельные скамейки, — начиналось игрище.
Садились все вместе у околицы, между домом и церковью. К речке шел далекий, ровный спуск.
Сначала подталкивали скамьи ногами, но чем дальше, тем сильней, плавней ее ход. Осталась налево сажалка с незамерзавшим ручьем, где бродят гуси, вытягивают шеи и кричат. Скамья бочит — удар ногой, и она снова на пути, вот все быстрей, быстрее в надвигающихся сумерках летят ребята, вот не удержались — все вверх ногами кувыркаются в снег. Визг, хохот. Надо вылезать, тащить в гору свои экипажи, снова мчаться.