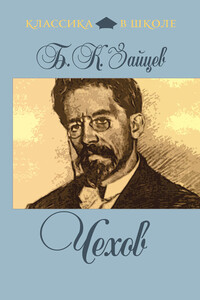— Что же вы находите во мне такого интересного? — спросил Ваня. — Вы вот мне даете книги, и меня учите, рассказываете о других странах, другой жизни, водите с собою на прогулки, а ведь я простой мещанский малый, мой отец торговец… Что такого вы во мне заметили?
Христофоров сел на пенек. Кругом была мелкая поросль: осинник, березняк, ниже, к речке, белел еще снег в ивняке и ольхах. Ваня прислонился к куче хвороста. Из-под него выскользнула узенькая ласка, точно змейка, и исчезла. Пахло терпко–горько и очаровательно — свежесрубленным деревом. Христофоров вдруг вытянул шею.
— Тс–сс…
Верхи осин за речкой, подымавшихся по взгорью, дымно розовели. А внизу уже ложился сумрак. В тихом воздухе с легким дыханием близкого снега, но с пронзительной горечью весны, раздалось дальнее таинственное хорканье.
И вот, за тонкой сеткою осин, летя над речкою и низиной, появился и сам тайный обитатель этих мест. Длинноносый вальдшнеп тянул на заре, насвистывал, нахоркивал вечный призыв любви, верное указание весны. Налетев близко, вдруг увидел людей, трепыхнулся, сделал пол–оборота и на крепких, но упругих крыльях, разрезая длинным носом зарумянившийся воздух, полетел дальше.
Христофоров засмеялся.
— Нас увидел! Что за зоркий глаз! Я прервал вас, Ваня, потому что очень люблю это, весенний вечер, тягу…
Он достал из старенького портсигара на закурку табаку, стал свертывать его в бумажке между пальцев.
— С тягою связано мое детство, дом, усадьба, мать, отец — все то, что ушло невозвратимо. Вот я и взволновался. Что же до вас… ну, молодость нередко вызывает в нас участие, сочувствие… а потом… вы знаете, ведь я совсем один. Родители мои давно уж умерли, сестра погибла в революцию, женат я не был. Так что я бобыль. И надо думать, во мне есть какое‑то семейственное тяготение — вы, например, кажетесь мне вроде бы племянником. И вот в Москву, Бог даст, доедем, мне бы хотелось повидать кое–кого из прежних… Ведь мы, знаете, становимся теперь уж редкостью…
— Да, вы не совсем такой… обыкновенный, — глухо сказал Ваня.
Христофоров подпер рукой голову.
— Необыкновенного во мне ничего нет, просто я человек, но, правда, мало подходящий к нашим временам. — Он улыбнулся. — Для чего такой я нужен?
— Однако же вы учите меня?
— И очень рад, и очень рад… — Христофоров вдруг взял его за руку, как бы взволнованно. — Вы слушайте меня. Все, что я вам говорю, слушайте. Дурному не научу, а кроме меня, некого вам слушать. И время трудное, и ваша жизнь длинна.
Закат смутно краснел сквозь чащу, и вода журчала. Иногда что‑то похрустывало в лесу. Христофоров поднял голову к небу. Оно стояло высоко, бледно–зеленое, медленно пламенея к западу, и холодно–лиловое к востоку. Легким узором едва проступали звезды.
— Вот она, — сказал Христофоров, указав на бледнозолотистую, нежную Вегу. — Это Вега, Ваня, альфа Лиры, о которой я говорил вам как об одной из самых близких к нам.
— Да, помню.
— Это Вега, — повторил Христофоров. — Голубая звезда Вега, звезда любви, моя звезда.
— Как же так, ваша?
— Вы не видите сейчас параллелограмма Лиры, возглавляемого ею. Небо недостаточно еще стемнело. А почему это моя звезда, особый разговор.
Христофоров разговора не продолжал. Да было бы и поздно. Уже вполне темнело.
В Двориках по–ночному лаяла собака. Пора.
У Антона Прокофьича на столе стояла маленькая лампочка, едва освещавшая комнату. Сам он раздевался за перегородкой, по временам высовывал худую голову в очках и с тощею козлиною бородкой.
— Кто смел, — крикнул он, когда Ваня и Христофоров входили, — тот двоих съел!
Панкрат Ильич, с которым, видимо, шел у него оживленный разговор, стелил на полу тулуп.
— То‑то вот и съел… они, черти, все нажратые. Кто сыт, тот и съел. А наше мужичье, что? Заместо хлеба оконятник. Ткнешь его, он и икнет.
— Ага, сопутнички, пора, пора, — заговорил вновь Антон Прокофьевич. — Ну что ж, все жительство наше обозревали, все Палестины? Как нашли здешнюю местность?
— Да мы так, — Ваня ответил уклончиво, — просто прошлись.
Панкрат Ильич осклабился.
— Алексей Иваныч, все ли звезды перечли? А то вдруг бы чего не позабыть? Там у вас хозяйство большое!