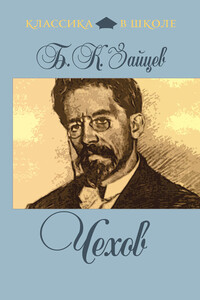Ехали долго, все подъем, прямой и ровный. Ни петуха, и ни собаки, ни навстречу никого. Стало светлее. Неожиданно сбоку выступил корпус фабрики. Отворены ворота, ни души. Окна повыбиты. Безмолвная труба, и на одном углу обнажены стропила.
Панкрат указал кнутовищем.
— Пролетариат празднует. Кажный день воскресенье. Видите, как крышу объедают? Это все у них на продажу, кровельное‑то железо. Все сообразят… Тут цельная деревня этим живет. — Он подошел вплотную к Христофорову. Глаза его вдруг свирепо загорелись. — Я б этих сукиных детей, доведись мне…
Панкрат Ильич был хуторянин, верст за десять от города Вани и Христофорова. Землю у него общество отобрало, но он жил все‑таки своим домком, и жил неплохо по сравнению с другими. Спекулировал чем мог, иногда, как теперь, ездил в Москву, и сейчас под сеном своих розвальней кое‑что вез. Только бы провезти! И весь его тулуп, курчавая бородка, небольшие глазки, крепкие валенки на кожаных подошвах — выражали одно: ну, идти делать, взялся, так уже сделать — и сдержанное волнение было в нем.
— Алексей Иваныч! — вдруг вскрикнул Ваня, остановив серую кобылу. — Поглядите‑ка, что!
И он вылез из розвальней, подбежал к краю дороги. Христофоров с усилием разогнул затекшие ноги, перевалился через облучок и, поддерживая полы шубы, подошел тоже. В слегка разошедшемся тумане, на начавшем отсыревать шоссе ржаво расползалась красноватая лужица. Кой–где были в ней сгустки, прожилки. По сторонам несколько брызг.
— Нехорошо, — сказал Ваня. Ресницы карих его глаз слегка вздрогнули. И поослаб румянец на щеках. Панкрат Ильич потрогал кнутовищем темно–бурую печенку.
— Я бы живой не дался!
А потом обернулся к Христофорову и запустил руку в карман.
— У меня для таких есть гостинец, — и вынул небольшой револьвер. — Без этого теперь нельзя.
Сумрачно запахнув тулуп, догнал свои розвальни, рухнул в них, хлестанул мерина и погнал его рысью. Ваня по–прежнему сидел на облучке, серьезный и спокойный, в своей ушастой шапке. После долгого молчания сказал:
— А это хорошо, что у него оружие…
— А вы как, Ваня, скажете, вам жутко?
— Ну, ничего, мало ли, со всяким может быть. Нет, чего ж бояться… Разумеется, запаздывать не надо.
«Вот он всегда уравновешен и покоен». Христофоров слегка про себя улыбнулся, и как нередко с ним бывало, точно бы отдался уверенности, серьезности сидевшего рядом юноши. Да, это другой народ, другое племя! «Нынче Ваня у меня учится, завтра станет инструктором физической культуры, послезавтра — красноармейцем и купцом». Христофорова это не огорчало, скорее радовало. Было приятно, что молодой и уверенный в себе юноша, так непохожий на комсомольца, — все‑таки ученик его, и друг, почтительный и внимательный. Ваня всегда осторожно и твердо подчеркивал именно уважение к Христофорову умственное. Было это и в том, как он слушал его — уроки ли, лекции ль? — как говорил о нем. Но всегда Христофорову чувствовалось, что до конца перед ним Ваня не выскажется. И это ему тоже нравилось.
Между тем становилось теплей и светлее. Давно разошелся туман. Солнце, правда, не выглянуло, но легкий, сизо–сиреневый свет все же лег по полям, еще снежным, в проталинах, по бледным, чуть тронутым весною рощам, засиневшим лесам. Ехали той частью Подмосковья, где много небольших березовых лесов и перелесков, хорошо возделанных полей, уютных деревень, сельских церквей.
Христофоров снял шубу и в одном пальто шагал рядом с розвальнями.
Родина засветилась ему давно не виданной теплотою, прелестью. «Боже мой, есть еще весна, будут ручейки, первые лютики в лесу, хорканье вальдшнепа на заре…» Он вздохнул.
А дорога вновь уже шла под гору, к селу. Проехали мимо большого парка, в глубине которого розовел господский дом — к нему вела аллея елочек. На другой стороне дороги, на отлете, церковь в рощице. В селе Панкрат Ильич выбрал чайную с синей вывеской и подъехал к комяге[261], где несколько лошадей с распущенными хомутами, в розвальнях и пошевнях, жевали сено.
Вылезая, Христофоров сказал Ване:
— Нынче воскресенье, не зайти ль нам в церковь?
Ваня улыбнулся карими своими глазами.