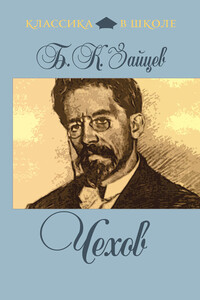— И ты здесь, поэт?
— Здесь, прекрасная, — ответил он. — Смотрю.
Она замеялас. ь.
— И прославляешь бедность?
Он придвинулся, заглянул в темные глаза, окончательно узнал Анну Дмитриевну, сказал тихо:
— Ты веселишься? Это правда? — Он сжал ей руку. — Правда?
Она выдернула ее.
— Оставь. Не насмехайся.
Подбежал Ретизанов.
— Слушайте, — закричал он, — я в духовной слепоте! Я ничего не понимаю. Нет, черт, я не могу ее найти. По-вашему, она тут? Да нет, вообще здесь очень все странно. Еще два часа, а уж есть пьяные, теснота. Не пускают Никодимова. Он скандалит. Вам нравится? — обратился он к Христофорову. — А главное, я не могу понять, что со мной сделалось. Я наверно знаю, что она приехала из Петербурга и должна здесь быть. Но где же?
— Ищите девушку в шальварах, — ответил Христофоров, — в низенькой шапочке и фате.
— Да вы почем знаете? — закричал Ретизанов. — Ах, черт…
Глаза его блестели, он был уже без маски. Что‑то нетрезвое, лихорадочное сквозило в нем.
— Мне кажется, — сказал он с отчаянием, — что если сейчас ее не найду, это значит, я погиб.
Христофоров взял его под руку.
— Пойдемте, не волнуйтесь. Она здесь. Мы ее найдем.
Действительно, в третьей же комнате, окруженная толпой, Лабунская танцевала danse de l’ourse[241] с индийской царевной. Христофоров постоял, посмотрел и двинулся дальше. Он не снимал маски.
По–прежнему странное и горькое удовольствие доставляло ему — смотреть, не будучи замеченным. От Лабунской, как и всегда, осталось у него легкое ощущение, будто гений света и воздуха одухотворял ее. Но иной образ стоял в его душе, бесконечно близкий и дорогой — бесконечно далекий. Было что‑то родственное меж ними, какая-то нота очарования. Христофоров знал, что сюда Машура не приедет. Все же, бродя в пестром мелькании масок, он искал ее. Это волновало и мучило. Иногда мерещилась она в быстром танце, в блеске глаз из‑за кружев, в полуосвещенном углу. Но как мгновенно вспыхивала, так же и уходила. Была минута, когда, став в тени портьер, закрыв глаза, усилием воображения он ее вызвал. Она была бледна, тонка, в длинных черных перчатках, с худенькими плечами. Масочка скрывала среднюю часть лица. «Это ваш поэтический экстаз, — говорила она с улыбкой и слезами, — сон, но не то, что в жизни называется любовью».
Он открыл глаза и тронулся. Машинально пробрался он вперед, и хотя теперь ее не видел, странное ощущение, что она здесь, невидимо, не оставляло его. Свет, люди, шум изменялись ее присутствием. Хотелось плакать. Сердце ныло нежностью.
В нюренбергском кабачке очень шумели. Все столики были заняты, скатерти залиты вином. На бочке танцевала маска. Кто‑то пытался ораторствовать. Другого собирались качать. У прилавка стоял очень бледный Никодимов и допивал коньяк.
— Несмотря на все, — говорил он флорентийскому юноше, с ласковым и порочным лицом, — я здесь… Дмитрий Павлыч Никодимов пришел.
Юноша дернул его за рукав.
— Дима, — сказал он тенором, вытягивая звуки, — не пей. Тебе вредно.
— Да снимите вы маску! — крикнул Христофорову знакомый, веселый голос.
Обернувшись, он увидел Фанни, за столом с несколькими иудеями. Толстый человек во фраке, с ней рядом, куря сигару, говорил соседу:
— Здесь и совсем Парыж!
Христофоров снял маску. Фанни, в предельно декольтированном платье, с чайной розой, хохотала и кричала:
— Садитесь! К нам! Это м–милейшая личность, — обратилась она к друзьям. — Проповедник бедности, или любви… чего еще там? Жизни, что ли? Забыла! Но милейшая личность, Давид Лазаревич, налейте ему шампанского!
Давид Лазаревич, с короткими и пухлыми пальцами в перстнях, из тех Давидов Лазаревичей, что посещают все модные театры, кабаре и увеселения, говоря про одни: «Это Парыж», а про другие важно: «Ну, это вам не Парыж», — отложил сигару и налил молодому человеку вина.
Христофоров имел несколько ошеломленный вид. Но поблагодарил и чокнулся.
— Очар–ровательно, — сказала Фанни, щуря продолговатые, подкрашенные глаза. — А откуда такой фрак?
Христофоров нагнулся к самому ее уху с бриллиантовой сережкой и шепнул:
— Чужой, Александра Сергеевича.
— Милый! — закричала она. — Аб–бажаю! Очар–рова–тельно, весь в меня. Я такая же. Мы все шахер–махеры.