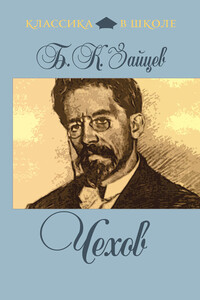— Значит, — говорила она, — все‑таки хорошо, что был этот вечер. Я получила букет, меня ведут в «Прагу» ужинать, луна светит… вообще все чудесно.
«Беззаботная!» — вспомнил Христофоров имя лошади, на которую она выиграла. И улыбнулся.
На Пречистенском бульваре было пустынно; тени дерев переплетались голубоватой сеткой; изредка пролетал автомобиль; извозчик тащился, помахивая концом вожжи. Лабунская бегала по боковым дорожкам, танцевала, бросала листьями в лицо Ретизанову. Христофоров смеялся. Он пробовал ее обгонять, но неудачно.
Ретизанов звал всех ужинать — Машура отказалась. У памятника Г оголю она села с Христофоровым на скамейку и сказала, что дальше не двинется: очень ночь хороша.
— Если соскучитесь, — крикнул Ретизанов, уходя, — приходите в «Прагу»! Я и вас накормлю.
Но они не соскучились. Христофоров снял шляпу, курил и внимательно, нежно смотрел на Машуру.
— Почему вы написали: загадочный?
Машура улыбнулась, но теперь серьезней.
— Да ведь и верно, — вы загадочный.
— Я уж, право, не знаю.
Машура несколько оживилась.
— Ну, например… вы, по–моему, очень чистый, и не такой, как другие… да, очень чистый человек. И в то же время, если бы вы были мой, близкий мне, я бы постоянно мучилась… ревновала.
— Почему?
— Я, положим, знаю, — продолжала она горячо, — что если Антон меня любит, то любит именно меня, и для него весь мир закрыт, это, может быть, и проще, но… Да, а у вас какие‑то свои мысли, и я ничего не знаю. Я о вас ничего не знаю, и уверена — никогда не узнаю. Наверно, и не надо мне знать, но вот именно есть в вас что‑то свое, в глубине, чего вы никому не расскажете… А пожалуй, вы и думаете там о чем‑нибудь, еще других любите… Нет, должно быть, я уж нелепости заговорила.
Она взволновалась, и правда, будто стала недовольна собой.
Христофоров сидел в некоторой задумчивости.
— Вы меня странно изображаете, — сказал он. — Возможно, и потому, что у вас страстная душа. Почему вы говорите о ревности, или о том, что я нехорошо от вас уехал, — прибавил он с внезапной, яркой горечью. — Разве вы не почувствовали, что мне невесело было уезжать? Нет, в том, что я уехал, ничего для вас дурного не было.
— А мне казалось, это значит: сохранить свободу действий.
Он взял ее за руку.
— Как вы самолюбивы… Как…
Машура вдруг откинулась на спинку скамьи. Пыталась что‑то выговорить, но не смогла. В лунном свете Христофоров заметил, что глаза ее полны слез.
— А все‑таки, — сказала она через минуту, резко, — я никого не люблю, кроме Антона. Никого, — прибавила она упрямо.
Во втором часу ночи, прощаясь с ней у подъезда их дома, Христофоров сказал:
— Может быть, вы отчасти и правы, я — таинственный человек.
В голубоватой мгле дерев, чуть озаренный лунным призрачным серебром, с глазами расширенными и влажными, он действительно показался ей странным.
— Не знаю, — холодновато ответила она. — Покойной ночи.
Он поцеловал ей руку.
VIII
Было около шести. В конце Поварской закат пылал огненно–золотистым заревом. В нем вычерчивалась высокая колокольня, за Кудрином; узкое, багряное облачко с позлащенным краем пересекало ее.
Антон вошел в ворота дома Вернадских, поднялся на небольшое крыльцо и позвонил. Косенькая горничная отворила ему и сказала, что барышня дома.
— Только у них нынче собрание, они запершись, наверху, — добавила она не без значительности.
Антон снял свое неблестящее пальто и усмехнулся.
— Девицы?
— Так точно. И чай туда им носила. Старая барыня в столовой, пожалуйста.
«Спасением души Машура занимается», — подумал он, оправляя у зеркала вихры. Очевидно, у Машуры нынче заседание общества «Белый Голубь». «Пишут какие‑нибудь рефераты, настраивают себя на возвышенный лад, а к сорока годам станут теософками», — хмуро подумал он. Напала минутная тоска. Стоит ли оставаться? Не надеть ли пальтишко, не уйти ли назад? Полтора месяца он с Машурой почти в ссоре, в Москве не был, а сейчас явился зачем-то — с повинной? «Невольно к этим грустным берегам»?..[204]
Но он переломил неврастенический приступ, вздохнул и полутемным коридором, откуда подымалась лесенка к Машуре, прошел в столовую.
На столовую она походила не совсем. По стенам стояли диваны, книжный шкаф, в углу гипсовая Венера Медицейская; закат бросал на дорогие темно–коричневые обои красные пятна. За чайным столом в вазах стояли букеты мимоз и красная роза в граненом с толстыми стенками стаканчике. Печенья, торты, хрустали, конфеты — все нынче нарядней, пышней обычного, — у Натальи Григорьевны тоже приемный день, когда собирались знакомые и друзья. Сама она, в черном бархатном платье, с бриллиантовой брошью, в золотых своих очках, при седой шевелюре, имела внушительный вид. За столом была Анна Дмитриевна, две неопределенные барыни, важный старик с пушистыми седыми волосами и толстая дама в пенсне — почтенная теософка. Старик же, разумеется, профессор.