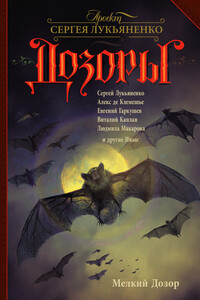С ним было не так страшно. Банки поблескивали зеленью из-под серой бахромы, а на привычном месте громоздилась груда тряпья. Но теперь в синеватом свете фонарика ветошь казалась какой-то ненастоящей, словно нарисованной в воздухе дымом и пылью.
— Крыса… — ласково позвала Таня, осторожно ступая по картошке. — Кры-ыса!
Она посветила фонариком в угол.
— Не смей моей жене такое говорить! Не посмотрю, что брат, ноги выдерну! — крикнул наверху дядя Юра.
Сквозь доски над головой Тани посыпалась какая-то труха. Фонарик выскользнул. Девочка ахнула, закрыв лицо ладошками.
Тряпки исчезли. Видимо, тот, кто создавал их, совсем растерял силы. Наверху бранились, кричали, звенела о пол посуда. И с каждым криком дыхание существа в углу становилось все более хриплым и страшным.
Он не был похож на крысу — скорее, на картошку. Маленький сморщенный дед, свернувшийся калачиком в гнезде из старой, побитой молью шали и разворошенного ватного одеяльца.
Таня присела возле него на корточки, достала поильник, капнула воды на растрескавшиеся серые губы крысиного дедушки. Он вдохнул каплю с хрипом и даже не закашлялся. Таня попыталась выдавить ему сок из малины. Малина была хорошая, со старой стороны огорода. Таня успела собрать ее до того, как мама разругалась с дядей Юрой и тот вылил в малинник щи, что мама приготовила на день.
Старичок пошевелился, отстраняясь от Таниной руки, отвернулся к стене. Наверху звякнула, разлетевшись, тарелка. Крошечный дедушка, похожий на завернутую в серую вату старую картофелину, вздрогнул и сжался сильней. Таня услышала, как стучат его зубы. Взяла кукольного старичка на руки, завернула в одеяло, села на край ящика для моркови, прижав к себе картофельного человечка. Его колотил озноб.
Таня понимала, что должна что-то сделать. Она сунула в коричневую лапку старичка желтого витаминного медведя и принялась качаться, как делала мама, когда успокаивала дочку, и напевать. Песни, что пела мама — и про волчка, и про дрему, и про собачку, и про ночь, — не подходили, поэтому Таня просто набирала на леску знакомого напева бусины первых попавшихся слов.
— Деда-деда, ты не плачь. Меня Танею зовут. Стану я тебя лечить. Стану ягодкой кормить. Пусть ругаются в дому, слушай Таню и не плачь. Стану я с тобой сидеть. Тебе песню напевать. Я с тобою посижу. Жаль, не крыса ты совсем…
— Вылазь, поэт-песенник, а то за косу вытащу! — В противоположной стороне распахнулся лаз, в него свесилась растрепанная голова Ларисы. — Там вроде все наорались, сейчас ужинать будем. Вылезай, пока не хватились, дитя подземелья. Как ты забралась-то туда, огрызок…
Голова исчезла. Вместо нее появился шнурованный ботинок, потом второй.
— Э, чё сидим, мелюзга, ноги в руки и наверх. Я помидоры достану.
— Я не пойду, — тихо сказала Таня.
— Ну-ну, — расхохоталась Лариса. — Жить тут будешь?
— Я не могу, — чуть громче проговорила Таня и прижала к себе одеяло.
— Так, давай сюда свою ляльку и шуруй наверх, — скомандовала Лариска. Согнувшись в три погибели, пролезла в угол, где сидела девочка, протянула руки к свертку.
— Ему плохо совсем, можно я тут посижу? — жалобно попросила Таня, разворачивая одеяло.
Домовик зашевелился и вздохнул.
— Н-да… — Лариса от удивления уселась прямо на земляной пол. Почесала бровь, запустила пальцы в черные перья волос. — И давно ты его нянчишь?
— Я вчера услышала, как он плачет. А сегодня и не плачет, только вот так делает — хрррр-хррр. А когда наверху ругаются, весь трясется.
Лариса пожевала губами, вынула одеяло из рук Тани, поднесла к лицу, разглядывая в тусклом свете, лившемся из лаза, коричневые щеки картофельного деда.
— Давай так, малявка, — сказала она решительно. — Лезь наверх, спусти мне банку с морсом. Там на столе стоит, я вчера сварила, но никто пить не стал. И булку скинь городскую. В буфете возьмешь. И сигареты… Хотя фиг с ними, не здесь же я буду… Давай булку и морс. Я лаз закрою. А ты иди к матери, и чтоб духу твоего тут до утра не было. Посижу я с твоим дедом.
— Честно? — с надеждой спросила Таня.
Ей уже очень хотелось есть, а от разговоров о булке и морсе заныло в животе.