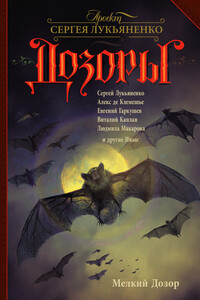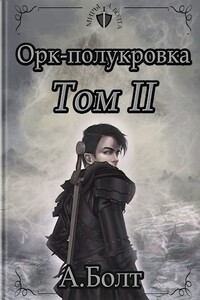— А ты чужое не дели!
Потрескивая, как береста в костре, завернулся и повис, как собачье ухо, уголок обоев у потолка, со вздохом просела половица, и в черную щель глянула тишина подполья.
Таня прижалась лбом к подоконнику и заплакала. Ей было жалко маленького домовика, Лариску, которая отправилась одна его хоронить, ей было жалко маму, папу, бабушку, дядю Юру и себя, потому что она уже три дня не обнимала папу.
Доска подоконника еле ощутимо пахла краской — видно, папа пытался подкрасить трещину. Дышали смоляной свежестью и осиновой горчинкой сложенные у печки дрова. Стена под подоконником, оклеенная зелеными обоями, была теплой и шершавой. Таня сжалась в комок, прижавшись к ней спиной…
— Стой, Танька, не смей! — крикнула Лариса из дверей.
Но Таня только улыбнулась сестре, не отрывая ладошек от обоев. Она слышала все: испуганный стук Ларискиного сердца, ругань за стеной, перепуганные крики птенцов над окошком, вкрадчивый шепот темноты, поднимающейся из картофельной ямы, и тихий шепот дома, ритмичный стук его общего с Таней сердца.
Она прижалась к стене всем телом и почувствовала, как становится легкой, почти невесомой, растворяется в большой чашке дома, оборачиваясь в звук его ровного и чистого дыхания.
— Таня!.. — со слезами крикнула Лариса. — Таня!
— Что? — влетела в комнату мама. — Что?
— Таня пропала, — выговорила Лариска сквозь слезы.
Все бросились искать, долго кричали у дома и в деревне, но никого не нашли. О дележе больше никто не заговаривал — в доме поселились мама и папа в надежде, что Таня однажды вернется.
Дядя Юра и Ирина Викторовна приезжали часто, привозили шашлыков и снеди со своего огорода, а по весне — саженцев. Лариска уехала в город, поступила в техникум. Бабушка сперва обижалась на нее, но потом простила.
Сестра приехала на исходе четвертого года. Повзрослевшая, с русыми волосами, забранными с хвост, в голубых джинсах и бледно-розовом ангельском свитере. Когда иссякли охи и ахи, окончились расспросы и хозяева отправились постелить гостье на ночь, Лариса вошла в Танину комнату. Там все оставалось как было: трещина на подоконнике, не выросшая ни на миллиметр, свесившийся уголок обоев. Только доска на полу встала на место, скрыв черноту подпола, да исчез скол в уголке стекла.
Лариса поставила на стол сумку, в которой оказалась просторная клетка. Девушка постучала по клетке. Из-под ватных комьев показался коричневый нос, ладошки с длинными коготками разгребли вату, и большая темная крыса села, прижав верхние лапки к брюшку, ожидая ужина.
Лариса протянула крысе ладонь, та взобралась, уцепившись лапками за палец хозяйки, пролезла в рукав свитера и замерла — грелась. Звякнул во дворе сдвинутый в сторону дедов велосипед.
— Привет, — сказала Лариса в пустоту, пахнущую пылью и прелой картошкой.
— Привет. — Прозрачная девочка сидела на краю ящика для моркови, болтая ногами. — Ты совсем другая с такими волосами.
— Татьяна, возвращайся, — оборвала сестру Лариса.
— Не могу, — спокойно ответила Таня. — Я уже и маме снилась и сказала ей, что не могу. Как я дом брошу. Я вернусь — и все опять начнется…
— Не начнется, — заверила Лариса, села рядом с сестрой. — Бумаги все подписали еще в прошлом году. Твоим родителям дом, а мне за это бабы-Катина однушка в городе. А чтоб не развалилось… Дед присмотрит…
Поняв, что речь о ней, крыса вынырнула из рукава, спрыгнула с шерстяного на джинсовое, уселась на колене хозяйки, оглядываясь. Словно ожидая разрешения обживаться.
— Научишь его всему и возвращайся.
— А как же…
— Соврем что-нибудь… — отмахнулась Лариса, понимая, что убедила. Встала, двинулась, пригнувшись, вокруг картофельной ямы. И едва не упала, когда сзади ее колени обхватили руки Тани.
Через неделю кто-то неуверенно постучал в дверь.
— Лариса, откроешь?
— Давайте вы, теть Надь…
Алекс де Клемешье. Затерянный Дозор
Непогода всегда обходила стороной Лос-Сапатос. Грозы бушевали над океаном, шторма застревали в частой расческе торчащих из воды скал Акульей Челюсти, водяные смерчи вились на изломанных ногах где-то вдалеке, а над островом тем временем триста дней в году сияло солнце. Наш сосед справа, старик Донни Карлсдейл, говорил что-то о горных породах, так щедро отдающих накопленное тепло, что воздух над ними постоянно движется в одном направлении, снизу вверх, выталкивая с занятого места все мало-мальски приличные грозовые тучи. Наша соседка слева, миссис Рэтклифф, выражалась проще: «Господь любит нас, деточка, вот и не допускает ненастья». Мистер Аарон Пристли, которому доводилось слышать и ту, и другую версию, лишь усмехался в густую длинную бороду, но никак не комментировал эти высказывания. Хотя его комментарии мне бы хотелось услышать даже больше, чем ответы соседей. На мой же взгляд, уверенность миссис Рэтклифф никак не противоречила уверенности мистера Карлсдейла: если господь нас любит, он запросто мог устроить так, чтобы Лос-Сапатос как раз и находился на каменной платформе, состоящей из подходящих горных пород, верно?