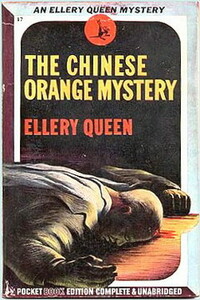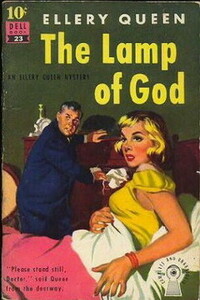— Художественные критики вам бы возразили. — Джонни не сводил глаз с дома Фанни Эдамс. — Мне кажется, Шинн-Корнерс должна ею гордиться.
— Еще бы! Только эта старуха мешает нашему самоуважению рассыпаться в пух и прах.
Судья поднялся с качалки, смахнул пыль с серого костюма из гладкой блестящей ткани и поправил панаму. Он с усмешкой объяснил, что нарядился по случаю Дня независимости, чего от него ждут. Но Джонни понимал, что старик радуется возможности 4 июля[6] произнести речь, что он делал ежегодно последние тридцать лет.
— Времени еще много, — сказал судья, вытащив большие золотые часы из черного шелкового кармашка. — Праздник начинается в полдень, после доения… Вижу, Питер Берри открывает лавку. После вчерашней рыбы, Джонни, тебя так разморило, что ты даже не имел шанса рассмотреть как следует Шинн-Корнерс. Давай-ка растрясем немного завтрак Милли.
* * *
Отрезок тридцатипятимильной шоссейной дороги из Кадбери в Комфорт, проходящий через Шинн-Корнерс, именовался Шинн-роуд. В центре деревни его пересекала Фор-Корнерс-роуд.[7] Вокруг этого перекрестка все, что осталось от Шинн-Корнерс, было втиснуто в четыре сегмента, наподобие четвертей пирога.
На каждом из четырех углов перекрестка стоял врытый в землю гранитный указатель. Край четверти пирога, где размещался дом судьи, занятый деревенской лужайкой, был отмечен указателем с высеченной на нем надписью «ЗАПАДНЫЙ УГОЛ», буквы которой стерлись почти полностью.
За исключением лужайки, являющейся общественной собственностью, вся западная четверть принадлежала судье. На ней стоял его особняк, построенный в 1761 году, — крыльцо с увитыми плющом колоннами, как судья сказал Джонни, было добавлено после Войны за независимость, когда колонны вошли в моду, — а позади дома находилось еще более древнее сооружение, ныне служившее гаражом. Раньше в нем был каретный сарай, а совсем давно, по словам судьи, жилище для рабов, чьим хозяевам принадлежал дом в колониальном стиле, на месте которого воздвигли теперешний особняк.
— Рабство не прижилось в Новой Англии не столько по моральным, сколько по климатическим причинам, — объяснил судья. — Наши зимы убивали слишком много дорогостоящих негров. А индейское рабство никогда не имело успеха.
Семьсот акров земельного участка судьи не возделывались при жизни двух поколений. Деревья теснились в нескольких ярдах от гаража, а сад вокруг дома представлял собой джунгли в миниатюре. Стены особняка посерели и казались покрытыми чешуей, как и у большинства деревенских зданий.
— Где дом моего деда? — осведомился Джонни, когда они шли по дуге потрескавшегося асфальта перед участком судьи. — Не спрашивайте меня почему, но я бы хотел взглянуть на него.
— Его разрушили, еще когда я был молод, — ответил судья. — Он находился на Фор-Корнерс-роуд рядом с фермой Избела.
Они шагнули на деревенскую лужайку. Здесь трава была зеленой, флагшток покрыт свежей краской, развевающийся на нем флаг казался новым, а пушка и монумент Эйсахела Шинна на трехступенчатом гранитном пьедестале были чисто вымыты и увешаны флажками.
— Здесь я произношу мои проповеди, — сказал судья, поставив ногу на вторую ступеньку пьедестала. — Старый Эйсахел Шинн возглавил экспедицию на север в 1654 году, убил четыре сотни индейцев и на этом месте прочитал молитву за их бессмертные души… Доброе утро, Кэлвин.
Человек, с которым поздоровался судья, волочил через перекресток ржавую газонокосилку. При виде его Джонни вспомнил о трупе, о который однажды едва не споткнулся на рисовом поле Северной Кореи. Высокий и тощий мужчина был одет во все коричневое, а поля его коричневой шляпы уныло опускались на такого же цвета уши. Даже длинные зубы были коричневатыми.
Подойдя к ним, мужчина притронулся к полям шляпы, перебросил газонокосилку через указатель в западном углу и начал щелкать ею по траве лужайки.
Судья направился к нему. Джонни потащился следом.
— Кэлвин, я хочу познакомить тебя с моим дальним родственником. Джонни Шинн — Кэлвин Уотерс.
Остановив косилку, Кэлвин Уотерс повернулся и впервые посмотрел на Джонни.
— Привет, — буркнул он, и косилка защелкала снова.