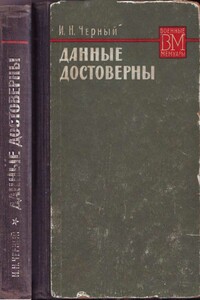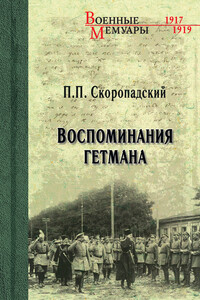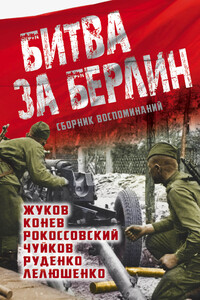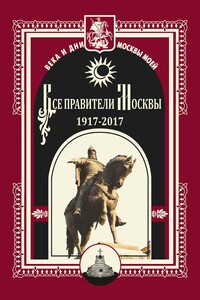Глава шестая
Канун контрнаступления
В конце ноября боевые действия на всем советско-германском фронте приняли предельно ожесточенный характер, а под Москвой достигли своего апогея.
Во время ноябрьского оборонительного сражения войска Западного фронта нанесли противнику большие потери, затормозили, а потом и остановили его наступление. Несмотря на значительное превосходство в танках, неприятель не смог прорвать нашу оборону настолько, чтобы выйти на оперативный простор, и был вынужден втянуться прежде всего своими танкомоторизованными соединениями в затяжные бои.
На клинском и солнечногорском направлениях гитлеровцам удалось добиться некоторого территориального успеха и вклиниться между нашими 30-й и 16-й армиями. Однако линия обороны, то выгибаясь вперед, то осаживаясь назад под натиском противника, все же сохранялась как единое оперативное целое.
Инициатива явно переходила к Красной Армии. Советские воины стояли насмерть. «Здесь, — пишет в своих мемуарах гитлеровский генерал фон Бутлар, — вследствие суровых условий зимы и упорного сопротивления русских, пополнивших свои силы за счет свежих войск и рабочих московских предприятий, наступательные возможности немецких войск окончательно иссякли. Наступление на Москву провалилось, намеченной цели на решающем направлении достигнуть не удалось». И в данном случае нельзя отказать врагу в объективной оценке обстановки на фронте под Москвой в тот период.
Бутлар не одинок в подобных высказываниях. Начальник гитлеровского генерального штаба генерал Гальдер вспоминал: «Сам фельдмаршал фон Бок сравнивал обстановку сражения с той, которая имела место в сражении на р. Марна в первую мировую войну, указывая, что «создалось такое положение, когда последний батальон, который может быть брошен в бой, может решать исход сражения». Но «снять какие-либо соединения… 4-й армии для использования их в наступлении северо-западнее Москвы не представляется возможным». Огромные потери понес враг не только в солдатах, но и в командном составе, о чем вспоминает тот же Гальдер: «Некоторыми немецкими пехотными полками командовали обер-лейтенанты, батальонами — лейтенанты. Войска были измотаны и не способны к наступлению».
Только с 16 ноября по 5 декабря 1941 года фашисты потеряли под Москвой пятьдесят пять тысяч убитыми, свыше ста тысяч ранеными; было подбито и сожжено семьсот семьдесят семь танков, уничтожено двести девяносто семь орудий и минометов.
Хотя всем уже было ясно, что дальнейшее наступление немцев неминуемо катится в пропасть, Гитлер, подобно азартному игроку, шел ва-банк.
Необходимых сил для удара по Москве у противника не оставалось, а снять их с северного или южного крыла огромного Восточного фронта он не мог.
К тому времени Красная Армия уже нанесла чувствительные контрудары: 12 ноября под Тихвином, а 29 ноября на юге (был освобожден Ростов). На этих направлениях неприятель, естественно, был вынужден держать внушительные силы.
Весь мир с неослабным вниманием ждал исхода борьбы за Москву. Устоят ли русские? Не сдадут ли они свою столицу? Удастся ли им если не разбить, то хотя бы остановить немецкие войска?
Фашистский генерал Блюментрит в своих воспоминаниях «Утерянные победы» писал, что в те дни «каждому солдату немецкой армии было ясно, что от исхода битвы за Москву зависит наша жизнь или смерть. Если здесь русские нанесут нам поражение, у нас не останется больше никаких надежд».
Перед захватчиками вставал грозный призрак 1812 года.
Уже к 1 декабря они потеряли преимущество в силах на советско-германском фронте и лишь на московском направлении имели некоторое количественное превосходство.
Но при всем этом нельзя было считать, что враг разбит и его можно брать голыми руками. Он еще достаточно силен, особенно в танках.