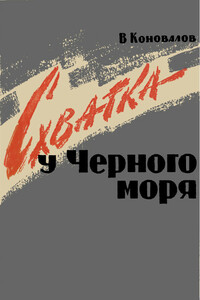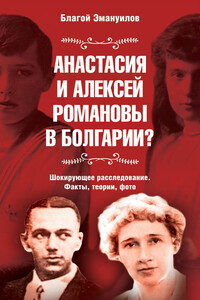Случилось одно на тысячу, прямо в щель, попадание мины. Вот оно, перед глазами с треском выросло черное колючее дерево, тяжелыми ветвями, как стальными прутьями, повалило всех на землю, расшвыряло по сторонам. Троих солдат — с ними и того, воронежского, худого, невысокого ростом — легко ранило. Старшина оказался убитым. Осколком сразило его в тот самый момент, когда он совсем уже было собрался покинуть убежище.
Не успел.
Черное дерево выросло и осыпалось, улеглось, сравнялось с землей. Только нехороший запах взрывчатки держался еще некоторое время возле того места, где старшина стоял, опершись руками о верхний срез земли, готовый вот-вот выпростаться из щели на поверхность.
Фамилию пропагандиста я уже не помню. Фамилия ротного старшины была Иванов.
Два человека ушли из жизни, возможно, иному домашнему стратегу покажется — ушли бессмысленно?
Первый погиб рано утром, по сути дела еще до того, как бой начался. Второй — поздно ночью, когда солдаты отдыхали...
Что же тогда происходило на поле боя днем, в промежутке между этими двумя смертями?
И что это были за бои, которые в июле 1943-го года вела на Курской дуге наша пулеметная рота, наша дивизия, вся наша 11-я армия?
Спустя три десятилетия после описываемых событий в «Истории Великой Отечественной войны» я нашел то, что меня интересовало. О боевых действиях нашей 11-й армии там говорится буквально следующее:
«...из-за отсутствия времени на подготовку к наступлению, растянутости тылов и усталости пехоты в результате 160-километрового марша, соединения 11-й армии вводились в бой по частям и успеха не добились».
Лишь деталь гигантской битвы. Всего несколько слов — даже не рассказ, а просто констатация. Самый сжатый итог того, что происходило на нашем участке фронта.
И вовсе не для того, чтобы задним числом попытаться «реабилитировать» свою армию, хочу я добавить еще несколько слов к «Истории» — от своего имени. Высказаться как рядовой участник тех тяжелых боев.
Все верно. Мы медленно продвигались вперед в заданном направлении. Не смогли совершить рывок, такой прорыв фронта, какой, наверное, полагалось бы.
Но кто бросит нам в этом упрек?
Кто скажет, что наша 11-я армия, хотя была изнурена форсированным — без сна и отдыха — многосуточным маршем, хотя и была растянута по фронтовым дорогам, кто скажет, что она не принесла пользы в сражении, действовала напрасно?
Мы делали, возможно, самое главное: оттягивали на себя, истребляли живую силу противника. Хоть самим было тяжко, а колошматили противостоящие нам немецкие полки и дивизии, лупили, молотили до тех пор пока от них по сути уже ничего не осталось.
И солдат, и полководец не выбирает по вкусу время и место боевых действий. Каждый выполняет ту задачу которая ему предназначена. Но какая задача важнее?
Не будь тех наших боев, не будь вообще победы в Курском кровопролитном сражении, разве стало бы возможно начавшееся затем знаменитое летне-осеннее наступление наших войск, такое стремительное, что сменившие нас воинские части продвигались вперед по тридцать километров в сутки.
Десятилетия спустя, смело могу сказать: в жестоких выпавших на нашу долю боях, мы выполнили свой долг до конца, сделали все, что было в наших силах, а кроме того, многое еще и сверх всяких человеческих сил.
Но и мы понесли, не могли не понести тяжелые потери.
Не раз видел я, как умирают в бою товарищи.
Просто...
Люди падают на землю так, будто случайно споткнулись или оступились, не удержались на ногах во врем бега.
Падают. И больше не поднимаются.
Убитые — это и есть те, кто, упав, так и остается неподвижно, безмолвно лежать на земле.
Владимир Юферов, мой фронтовой друг, командир расчета и я находились за пулеметом, ведя огонь по отступающим гитлеровцам, когда воздух распорол страшный, сотрясающий все вокруг взрыв — я почувствовал, как земля подо мной разом сдвинулась на несколько метров в сторону.
Неподалеку повалился в траву пехотинец. Даже и в грохоте боя слышно было, что он стонал, просил о помощи.
Юферов остался, продолжая огонь из пулемета, а я подполз к пехотинцу, обшарил карманы его гимнастерки, ища индивидуальный пакет.