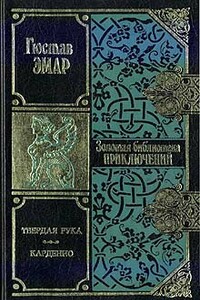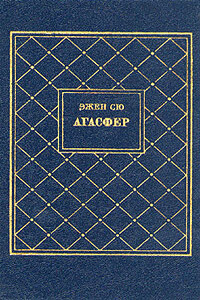— Худо нам ныне: ворогов много, со всех сторон, — заключил сотник. — Но земля наша, пока дышим, стоять будет. И для того у моря должны держаться, Белгород наш крепить.
— Камень мужу — недолгое прибежище, — несогласно промолвил Бердыш.
— Ведаю, друже, — ответствовал Тудор. — Земля, взъерошившаяся крепостями, — земля слабых; от страха камень на ней вздыбился. Сильные не хоронятся за камнем стен и веж. И мы не строим фортецц да твердынь. Но врата земли крепкими быть должны. А Белый город — наши главные врата. Морские. Сделайте нам, синьор и друг, у моря добрую крепость, и Земля Молдавская не забудет вас вовек!
— И вправду, ваша милость, — с усмешкой поддержал Василь, — чего бы не взяться? Оживлять добрый камень не лучше ли, чем неблагодарный, переменчивый песок?
— И камню жизнь давать не всегда полезно, друзья мои, — улыбнулся Мастер. — Давние счеты с ним, конечно, у меня есть, слишком часто подводил он меня, обманывал. Да и я перед ним — не без вины; оживив, бывало, не мог защитить. Это ведь — предательство тоже. И камень меня предавал, однажды — чуть не заглотал навеки, — добавил он загадочно и грустно.
— Наш камень, синьор и друг, не обманет вас, не выдаст, — с горячностью молвил Тудор. — Белый камень Молдовы не подводит ее мастеров.
— Так вы и вправду зовете меня в Молдову, рыцарь? Строить крепость?
— Прощу оказать земле моей доверие и честь, — поднявшись на ноги, с поклоном сказал сотник. — Моя страна невелика и бедна, но назначить достойную плату славному зодчему сумеет.
Мастер встал и растроганно пожал Тудору руку.
— Благодарю. Но что на это скажут братья Сенарега, хозяева Леричей и наши?
— Генуэзцам, — усмехнулся Тудор, — мы не рабы. Пришлют из дому для меня выкуп, синьор и друг, и мы с вами, простившись с братьями, отбудем, благословись, в мой край.
— На Молдову... Решусь ли? Могу ли вам слово дать? Не знаю, не знаю... Как же все — таки быть со здешними синьорами? Я многим обязан им!
— Скорее наоборот, ваша милость, — возразил Бердыш, — Выкупа они за вас никому не давали, на харч многое не кладут. А вы строили их гнездо. И построили, вот те крест, на славу!
— Я подумаю, рыцарь, подумаю, — торопливо сказал мессер Антонио и, простившись, удалился к себе.
Когда Зодчий исчез из виду, над обрывом мелькнула зловещая тень рыжего доминиканца.
— Следит? — взглянул Тудор на Василя.
— Следит. Ненавидит пуще, чем татарина али турка.
— Но почему?
Бердыш поскреб в затылке, потянулся.
— Сей мастер, чуял я, для ихнего поповского племени — еретик. Латинский же поп на ересь да схизму более ярится, нежели на бесерменство.
— Мне это ведомо. Да причину такой злобы не могу понять.
— Представь, брате, что перед тобою иной человек стоит, — начал объяснять сведущий в делах веры работник. — И в мошне у того — сотня золотых, коих ты в руке не держал и держать не надеешься. А потом представь другого, тоже с сотней в мошне; да только половина тех золотых была уже твоею, но коварно утекла к тому, другому, когда сам ты имел надежду и вторую заполучить.
— Ну?
— Так вот, первый из них — человек иной веры. Второй же — схизматик.
— Значит, за попом нужен глаз вдвойне. В ножевом деле наш поп — мастер почище лотра. Мыслю я, надлежит нам с тобой, пане — брате...
И оба витязя, склонившись друг к другу, заговорили о делах, к которым готовились вместе как побратимы и союзники.
Близился вечер, когда Бердыш, волоча охапку прутьев для стрел, встретил опять стряпуху. Долгого разговора на сей раз не повел. Сказал только: «Пойдешь со мною на Русь?» И добавил: «Аннушка!»
Аньола затрепетала, выронила, что несла. И убежала опрометью к себе, в каморку. Там, упав на убогое жесткое ложе, плакала долго, навзрыд, — впервые с горьких дней пленения. Обиду на судьбу выплакала до конца. Бродяга Бердыш знал дело обольстителя — сберег заветное самое слово на самый конец, чтобы сказать наверняка. Ведь сколько лет на чужбине не звали Аннушкой сирую рабу! И настало прояснение. И поняла Аньола, то — ее мужик, муж. От него рожать ей ребят, с ним — растить. С ним и жизнь прожить, на радость и горе вместе идя, как сказано в святой брачной клятве.