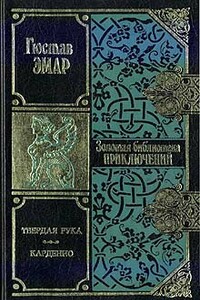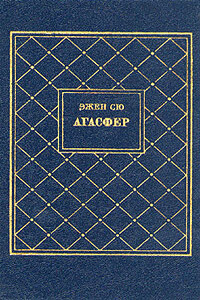Сюда, в страшные Пьомби, и привели недавнего художника папы прямо из комнаты инквизиторской троицы, по известному во всем мире роковому Мосту вздохов.
Мастер выдерживал дни под Свинцами, ночи же его были посвящены допросам. Главным образом это были ночи пыток.
Перед тем, как его начали пытать, Антонио выслушал обязательное предупреждение, елейным голосом зачитанное самим инквизитором. «Мы, божией милостью инквизитор города Венеции, — вещал доминиканец, — внимательно изучив материалы дела, возбужденного против вас, и видя, что вы путаетесь в своих ответах и что имеются достаточные доказательства вашей Вины, желая услышать правду из ваших собственных уст и с тем, чтобы больше не уставали уши ваших судей, постановляем, заявляем и решаем к исходу завтрашнего дня, к полуночи, применить к вам пытку»[87].
Мастер выдержал пытки — на дыбе и на лестнице, плетью и колесом, каленым железом и огнем. Познал мессер Антонио «верную жену» — узкий железный ящик, в котором его подвешивали так, что ноги не доставали пола, на хитроумном сплетении рычагов и брусьев, железных поясов, ошейника, ножных и ручных браслетов. Голова пытаемого в пыточном том гробу запрокидывалась, грудь вдавливалась в плечи, таз был с силой выдвинут вперед, руки и ноги вывернуты. Каждое движение в объятиях «жены» лишь усиливало нестерпимую муку, длившуюся долгие часы.
Мессер Антонио узнал также, для чего у святых отцов имеются особые зажимы — тоже железные. И такие же башмаки, сжинавшие ноги такой болью, словно были раскалены докрасна. И камеру, чьи стены медленно и неотвратимо сходились, грозя его раздавить. И другую, в которой с той же неумолимостью поднималась ледяная вода. Мастер познакомился и с лицемерно — елейным, притворно смиренным наречием инквизиторов. Сломить человека на том жутком языке означало «смягчить», подвергнуть жесточайшей пытке — «допросить крепко», давить на него угрозами — «увещевать с любовью». Все это святые отцы проделывали с Антонио, не жалея времени и сил.
Оставшиеся на воле друзья Мастера пытались ему помочь. Друзья обратились к епископу с жалобой: Антонио—живописца пытают многократно, тогда как, по решению Вьеннского собора[88], могли проделать это только один раз. Отец Руффино имел на это готовый ответ. Инквизитор объявил, что собор, вынося свое постановление, имел в виду только обвиняемого, этого же грешника пытают снова уже как свидетеля по его же делу — столько раз, сколько и выдвигают свидетелем. Далее объяснение стало проще; каждый раз, когда допрос с пристрастием приходилось кончать, инквизитор объявлял пытку прерванной, а на следующем допросе — подлежащей возобновлению.
Мастер выдержал все. Он так и не произнес «респонсио мортифика» — несущие смерть слова признания, за которыми следовали приговор и казнь. Отец Руффино так и не смог тогда приказать отвести ненавистного живописца в глухую комнату, где его, усадив в каменное кресло, удавили бы сзади петлей, чтобы затем с камнем на шее передать через окно в гондолу и утопить в дальнем канале Орфано — Сироте. Нельзя было еще, — в самой Венеции грешников не сжигали, — отвезти вольнодумца в Пизу, или иное владение Сиятельной, дабы там со всей торжественностью подвергнуть его огненной казни, да на костре повыше, чтобы сгорал в нем медленнее, испив кару до дна.
Подследственный вытерпел все, даже возможность погибнуть от пыток или от убийственного жара под Свинцами не заставила его признать обвинения верными. И инквизитор скрепя сердце, вынужден был отступить. Обвинение, после шести месяцев пыток, сочли недоказанным. Но и это не снимало до конца вменяемой жертве вины. Мессера Антонио выпустили из Тюрьмы. Теперь он, в течение неопределенного времени, обязан был, являться к зданию священного судилища и стоять неотлучно у его дверей, «от завтрака до обеда и от обеда до ужина»[89], — на случай, если против него появятся новые улики. Стоять, как у позорного столба.
Мастер много размышлял — уже в Леричах — о святейшей инквизиции, и многого не мог понять. В каких глубинах человеческой темноты, жестокости и трусости зачат сей гнусный зверь? Какими трусливыми, невежественными и жестокими должны быть народы, терпящие его гнет, питающие его золотом и человеческими жертвами? Как мог этот зверь появиться на свет, и кто повинен в том — небо или ад? Или оба в противоестественном союзе породили эту кровожадную химеру с крестом и смрадным факелом в руках? Люди, конечно же, ее заслужили, но, — чем? Просто тем, что трусливы и слабы? Или это совокупное порождение всего плохого, что есть в человеке? В чем родилось, из чего вышло чудовище — из пламени ненависти? Из хладной слизи зависти, устилающей ад? Из зловонных сгустков бесчестия, осевших на самом дне тартара? Среди шевелящихся там цепких щупалец алчности? Если этот зверь создан диаволом, как осмелился на такое злодеяние сам Сатана? И как попустил тому бог?