— Да вы-то почем знаете, кто где дохнул и куда чего несет?
— Жил в этих краях.
— И в какое же это время вы жили?
— После войны, в самый разгар коллективизации.
— Коллективизация в первой половине тридцатых годов закончилась, Евлантий Антонович.
— Как сказать. И да и нет. Объединили разрозненные хозяйства — да. Обобществили землю — тоже да, хотя обобществить ее ой как трудно, ее миллион лет разделяли. Даже фонетика этого слова трудная: об-об-щест-вить. Чувствуете, ломка какая? Две приставки об-об понадобилось, чтобы глагол выражал действие. В языке вон какая ломка, а что уж говорить о ломке бытовой и хозяйственной. Старый государственный строй поломали за десять дней. Коллективизация — это не только объединение и обобществление, это еще и взгляды, отношение к труду, умение и своя, новая наука пахать, сеять и урожай собирать на огромных массивах, переосмыслив понятия твое, мое, наше. В прошлом году иду полем — сушь, тишь, а комбайн стоит посреди полосы, и комбайнер спит на куче соломы. Что ж ты, мужик, делаешь, спрашиваю. Отдыхаю. Зерно осыпается — он отдыхает. Понимаешь? Так ты ж, говорю, с такой работой булки хлеба не заработаешь. В магазине все равно будет, баба купит. Видел? Не зря Ленин писал, что для полного завершения коллективизации нам потребуется как минимум пятьдесят лет. Так по его и выходит. Нет, сынок, Анатолий Карпович, товарищ директор, коллективизация продолжается. Освоение целинных и залежных земель что, по-вашему? Тоже коллективизация.
— Ну-у, Евлантий Антонович, целый курс вы мне прочитали. У вас образование, прошу извинения, какое?
— Образование? Тимирязевка. Плюс университет марксизма-ленинизма.
Анатолий ждал, что Евлантий Антонович в свою очередь спросит «А у вас?» и, может быть, потому долго не решался полюбопытствовать, что за агронома назначили ему в главные. Анатолию вовсе нечего было бы ответить. Выпускник Института механизации. И все. На этом его опыт и заслуги перед сельским хозяйством заканчивались, если не принимать во внимание сезонных работ во время каникул в должности командира механизированного студенческого отряда. Но Хасай не спросил. Хасай Евлантий Антонович тоже был молод и с этого же почти начинал в тридцатые годы.
Сыпанул дождь. Частый, крупный, холодный, с ветром. Завизжали девчонки. Анатолий натянул на голову башлык штормовки и начал сматывать полотнище знамени.
— Зачем? Пусть развернуто. Оглянись-ка.
Парни в тельняшках, гоняясь за сусликами, разбрелись по степи и лезли теперь напролом по высокой, в пояс, и мокрой траве, как матросы через Сиваш, видел он такую картину в Эрмитаже. Вся и разница, что по ним не стреляли из пулеметов и не было ни Перекопа, ни Врангеля впереди, впереди был только крестик на карте. Вот она, их вера.
— Головотяп, — обругал себя Белопашинцев. — Свою куртку небось не бросил в автобус, почему другим не подсказал, чтобы оставили при себе верхнюю одежду. Евлантий Антонович! Нескромный вопрос можно? Вам лет сколько?
— Ну, скажем — за сорок, чтобы не говорить под пятьдесят. Зачем вам мои лета? А-а! Понял. Академики едут по комсомольским путевкам, так что я по сравнению с ними — октябренок.
— Маху мы дали с автобусом, — переменил тему Анатолий.
— Да я тоже вначале так считал, а автобус умней нас оказался. Видели, какие у него колеса?
— Круглые, — не сдержал шутку Анатолий.
— Вот именно — круглые. В смысле — лысые. И мудрые, как четыре Сократа. Укатили — и ваших нет. А иначе на себе тащить пришлось бы этого одра.
Говорить стало совсем невозможно. Ветер метался по степи, и дождь полоскал то слева, то справа, просекая насквозь, заливая глаза, уши, нос, рот, и слова, казалось, лопались возле губ, как пузыри на лужах.
Их догнал Вася Тятин, вылинявший настолько, что разобрать трудно, где синяя полоска на его тельняшке, где белая, и вообще была ли она тельняшкой.
— Василе-е-ек… Что с тобой?
— З-заду-ду… з-задубел.
— Я спрашиваю, что с тельняшкой?
— С-спеку… ллянка, проходимка, барахло подсунула. «Настоящ-щая», — передразнил Вася торговку.
— Ты ж хвастался, тебе дядя-капитан подарил ее. Или то другая?

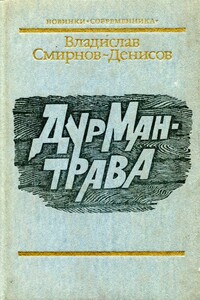

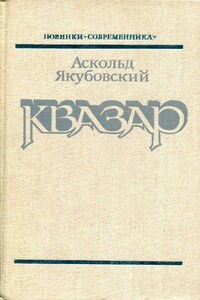
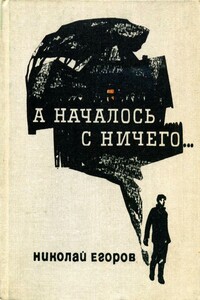
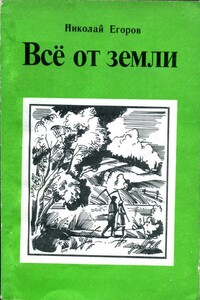

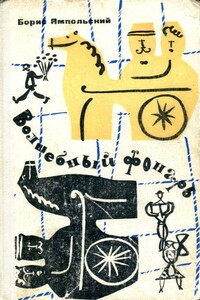
![Когда-то я скотину пас [сборник]](/uploads/books/images/c4/c4802de943fb89a35fb009b37289c29088cb308b.jpg)
