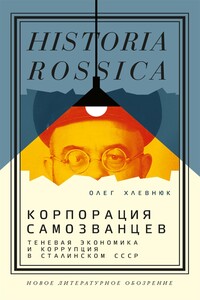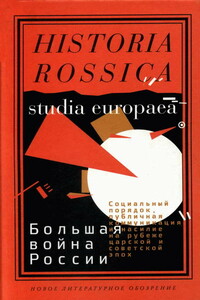Советская историография рассматривала взаимоотношения частного сектора и социалистического хозяйства во время нэпа узко и крайне политизированно — борьба. Причем речь шла не столько об экономической конкуренции, сколько о классовой борьбе. Она описывалась формулой «кто кого», которая не предполагала сосуществования. Использовавшаяся терминология — «временное отступление», «вынужденный компромисс» и, наконец, желанное «вытеснение частника» — говорит сама за себя. План и рынок, государство и частник почти всегда противопоставлялись. Частник и рынок считались опасными для социализма, в них мерещилась реставрация капитализма. Даже в отношении колхозного рынка, который был официально признан частью социалистического хозяйства, нет-нет да и вылезало явно неприязненное отношение.
Нельзя сказать, что описание взаимоотношений государства и частника, плана и рынка терминами борьбы является ошибочным. Но это лишь одна из сторон их сложных взаимоотношений. Кроме того, исследователи оставляли без внимания тот факт, что политизация взаимоотношений государственного регулирования и рынка была делом руководства страны, которое боролось с частником не только экономическими мерами, но и с помощью политических репрессий. Терминами политической борьбы описывалась и экономическая конкуренция.
Для советской историографии не существовало проблемы альтернатив нэпу, как и не ставились под сомнение своевременность вытеснения частника и готовность государственного сектора заменить частный. Успехи развития социалистического сектора, в том числе и социалистической торговли, нередко оценивались не по росту их показателей, а по снижению показателей частной деятельности. Именно поэтому советским исследователям после описания успехов социалистической экономики было трудно объяснить кризис и карточки первой половины 1930‐х годов — результат развала рынка в стране. О другом результате, голоде 1932–1933 годов, советская историография хранила молчание. Вытеснение частника из экономики страны советская историография преподносила как победу социализма, только оставалось непонятным, почему эта победа оказалась пирровой.
Данное исследование свидетельствует, что государственная торговля на рубеже 1920–1930‐х годов не только не была готова заменить частную, но и сама постановка вопроса о замене не является правомерной. Вопрос стоит иначе — могла ли плановая государственная экономика существовать без рынка и частника и существовала ли она без них когда-нибудь? На оба этих вопроса книга дает отрицательный ответ. Рынок был неизбежной частью социалистической экономики. Иначе и быть не могло.
Советские исследователи не отрицали карточек первой половины 1930‐х годов и даже указывали на связь карточной системы с индустриализацией. Однако советская историография не признавала существования кризиса — следствия индустриализации и коллективизации, успехи которых абсолютизировались. Ситуацию в СССР времен первой пятилетки противопоставляли трудностям Гражданской войны. Тогда, дескать, был настоящий голод, не хватало основных продуктов питания и предметов потребления, в то время как в первой половине 1930‐х карточки были введены из‐за опережающего роста благосостояния населения по сравнению с темпами развития промышленного производства и сельского хозяйства. По мнению советских исследователей, особенно не справлялось с обеспечением потребностей населения «отсталое» единоличное крестьянское хозяйство, что оправдывало коллективизацию.
В советской историографии не написано ни о «товарном голоде», ни тем более о голодном море при социализме, а только об относительном недостатке товаров и продовольствия. Товарный дефицит не рассматривался как имманентная, неотъемлемая черта социалистической экономики и централизованного распределения. Советские историки видели хронические кризисы перепроизводства в капиталистической экономике, но не видели хронических кризисов снабжения и карточек в своей собственной. Проблему товарного дефицита при социализме они рассматривали как временную и объясняли, наряду с ростом денежных доходов населения,