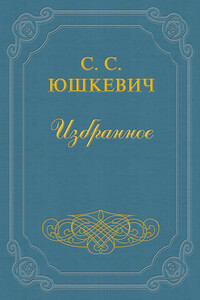Венера, вскинув лапы на плечи Шахназарова, скулила, будто жаловалась на каких-то обидчиков, Рекс всё ещё метался по вольеру, хрипя и редко, басовито лая.
— Успокойся, Венера, иди, иди... Рекс, на место!— командовал Шахназаров.
Собаки наконец с неохотой вошли в будки и легли, встревожено поскуливая.
Шахназаров собрал котлеты, вышел на тропинку, ведущую к казарме. Может, он не догадывается, кто тут без него поработал, может, уйдёт?
Не ушёл. Остановился совсем близко от ели, раздо-садованно плюнул и, хоть наверняка не видел его, Юрки, строго сказал:
— Вылазь!
Юрка огляделся, будто выискивая место, где бы можно было укрыться понадёжнее,— такого места не было.
— За уши тебя тащить, что ли? Вылезай!
Понуро опустив голову, Юрка вышел к Шахназарову, держа в руке — на отлёте, как чужой — целлофановый мешочек с тремя оставшимися котлетами.
— Они не отравлены,— робко пролепетал, оправдываясь.— Их мама жарила... Знаешь, какие они вкусные, Шах!..
— Говорил я тебе, что этого делать ни в коем случае нельзя?
— Говорил...
— А ты — не послушался. Решил: никто, мол, не узнает, и такого натворил... Солдата за это на гауптвахту посадили бы, понял? Ну, а ты... ты пока не годишься в солдаты. Подвёл ты меня... Неважный ты, Юрка, друг...
— Нет, важный!— вскинулся Юрка.— Я хороший друг, правда, Шах! Только мне очень хотелось, чтобы они... скушали...— На глаза Юрки навернулись слёзы.
— Перестань хныкать,— пренебрежительно сказал Шахназаров.— У нас так положено: натворил беды — отвечай... Вот что, Юрка, поступил ты нечестно, нехорошо. Сегодня собаки на посту всю ночь будут волноваться... Какая там служба, если перед глазами твои... вкусные котлеты? Ну вот, значит, объявляю тебе сутки домашнего ареста. Сюда, на позицию,— чтобы ни ногой. До завтрашнего вечера ты мне не друг. Извини, но я... не могу тебя видеть. Забирай свои вкусные котлеты и шагай отсюда!
Шахназаров ушёл, ни разу не оглянувшись.
Юрка ещё долго стоял, опустив виновато голову, потом все котлеты — и те, что были в мешочке, и те, которые отказалась съесть Венера,— швырнул под куст, поплёлся к проходной.
И в это утро его разбудила песня. Доносилась она откуда-то издалека, была непонятной, тягучей и вскоре замерла где-то за лесом.
В листве берёзы под окном, в лапках елей шелестел дождь. За окном было пасмурно. Низко, цепляясь за верхушки сосен и елей, тянулись лохматые серые тучи.
Юрка, прижавшись грудью к подоконнику, уныло наблюдал, как ползут они, эти тучи, куда-то далеко-далеко; ему было зябко в майке, он поёжился, подумав, что, наверное, и тучам зябко, и, может оттого, что им зябко, они вот так и расползаются, и клубятся, чтобы как-то согреться.
Зябко, наверное, было и часовому у проходной. Глубоко надвинув на голову мокрую пилотку, он всё ходил вдоль опущенного полосатого шлагбаума, и полы намокшего брезентового плаща при каждом шаге хлопали его по ногам, как железные. Над оградой виднелась шиферная крыша казармы — в солнечные дни белая, а сейчас грязновато-серая от дождя,— в приоткрытом чердачном окне с козырьком жались друг к другу два голубя, третий ходил по карнизу, время от времени расправляя крылья. Может, им тоже холодно?
Глядел Юрка на домик караульного помещения у проходной, на казарму, и было ему тоскливо. Где-то там Шахназаров и «дядя Стёпа», а вот он, Юрка, арестованный Шахом на сутки, не имеет права даже видеть их. Сейчас ему, как никогда, хотелось хотя бы на минуту забежать в каптёрку, узнать, шьёт ли «дядя Стёпа» мундир. Может, теперь после всего, что случилось, никто об этом и не подумает? Сказал же ведь Шахназаров, что он, Юрка, ещё не годится в солдаты.
Дверь приоткрылась. Розовощёкая, с неизменным бантиком в волосах, Оля впустила в Юркину комнату Дункана. Тот затрусил под кровать, Оля вознамерилась полезть за ним.
— Закрой дверь!— прикрикнул на неё Юрка.
— А зачем?— Глаза у Оли ясные-ясные и большие, как голубые пуговицы на мамином платье.
— Закрой, тебе говорят!
— И-и-и,— тянет Оля на одной ноте, с надеждой и ожиданием косясь на дверь.
И дождалась своего, из кухни выглядывает мама.