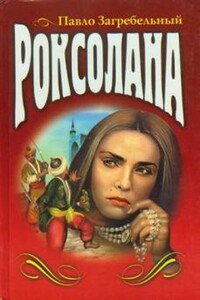- Тут надо было на смерть идти! - выговаривал он сердито. - За меня, твоего господина, была бы и смерть красна! А ты вон сбежал от хилого парня…
Сыч молча шагал за Якуном и думал трусливо и озлобленно:
«Ни в чём не везёт мне ныне. С того самого дня, как убил я в посольской ладье проклятого сарацина, судьба не шлёт мне удачи! Видать, сарацин тот - вещий, мстит с того света…»
Сыч вспомнил, как он, уйдя из ладьи, в которой убил араба и чуть не попался в руки гребца, несколько дней петлял по чужим дорогам с пустой утробой. Ел ягоды и сырые грибы, коренья трав и невызревшие орехи. Потом набрёл на ватажку, пристал к ней, надеясь на счастье. Но при первой же разбойной засаде ватажке не повезло: оказалось, что вместо нищих бежан ватажники наскочили на воинов из рязанской княжьей дружины. После кровавой стычки Сыч с другим из оставшихся в живых ватажником, по прозвищу Таракан, два дня отлёживался в кустах от тяжких побоев. Охая, еле живой, Таракан поведал, что вроде как есть на Москве-реке лихая шайка с названьем «Якуньи други». Держит её человек Якун, управитель боярина Кучки, тайком от боярина, вместо слуг…
- Вот где нам выгоды было бы много! - завистливо повторял Таракан Сычу. - Бежал я в то лето из-под Рязани и слышал от верного человека: надёжней тех «другов» и нет нигде!
Решив проверить молву, Сыч с Тараканом пошли к Москве. И молва оказалась правдой: в усадьбе Кучки управитель Якун тайком от боярина и в самом деле держал ватажку. Он набирал в неё отчаянных мужиков якобы для того, чтобы оборонять глухую лесную усадьбу от разных татей. Ватажка часто стояла заслоном близ устьев Пахры или Истры, а иногда ходила даже в рязанские земли и возвращалась оттуда с большой добычей. Шарил жадный Якун и в низовьях Москвы-реки, и в её верховьях: купцы рязанские, новгородские да смоленские - чем не добыча? А если выпадет случай - добро поживиться и на своей, московской земле! Князь - далеко, боярин - не догадается, не узнает. А и узнает - слуги, мол, насамовольничали… прости!
Сыч с Тараканом пришлись Якуну по нраву. Да и Сычу пришлось в «Якуньих другах» по вкусу: бродяга был сведущ в разбойном деле, тёрт жизнью, честолюбив, знал счёт до ста, был ухватист на выдумки и забавы. Поэтому после первых же двух «походов» Якун приблизил Сыча к себе, и уже в третий «поход», когда ватажка ушла «на дело», бродяга остался стеречь усадьбу. В тот день управитель Якун собрался в княжий посёлок к Федоту в гости, взял с собой и Сыча. И быть бы хмельному дню, - ан, привалили бежане крутого нрава: помяли Якуну жирное пузо, Сычу же руку едва не сломал проклятый мужик Страшко…
«Уж не судьба ли Мирошку с лохматым бесом сюда прислала? - прикидывал Сыч, шагая вслед за Якуном. - Ох, нет, не надо бы мне колоть в ладье сарацина! А если уж заколол, то надо было сказать заклятье:
Укроюсь от врага небесами,
Перепояшусь ясными зорями,
Обложусь частыми звёздами,
Как вострыми стрелами!»
Не сделал этого Сыч, теперь судьба повернулась к нему спиной…
Тропа между тем уже выскочила из леса на луговину, и впереди показалась усадьба. За частоколом мелькнули и бешено захрипели псы. Якун сердито вскричал:
- Э-эй… цыц, вы!
Собаки замолкли, узнав своих. Ворота раскрылись. Сыч вместе с Якуном вошёл во двор.
На крыльцо к ним вскоре вышел боярин - приземистый человек с мясистым лицом, заросшим седой бородой, с насупленными бровями и строгим взглядом маленьких серых глаз. Одетый в хорьковую шубу и шапку с бобровой опушкой, он был подобен медведю.
Боярин спросил:
- Ну что?
Якун во всех подробностях рассказал про бежан, особенно про Страшко и Мирошку. Про трусость Сыча смолчал…
- Теперь, должно, что Федота бьют! - закончил он с тяжким вздохом.
И больше для оправданья, чем зло, вскричал:
- Ну, чисто, как тати! Хотя и бабы с ними да чада, но просто не чаю того, что там Федот останется жив: зарежут!..
Боярин презрительно вскинул густые тёмные брови.
- Зачем же Федот средь бежан остался один? - спросил он насмешливо и сердито. - Чай, люди-то в княжьей есть?
- Надёжных немного: всё новые, приселенцы. Опрошлым летом пришли…
- Ништо! Был бы Федот в уме, собрал бы их скопом - да на бежан! Голодных, я чаю, в разум ввести нетрудно…