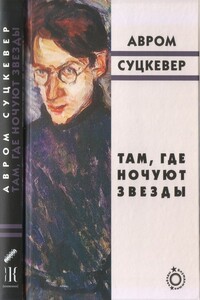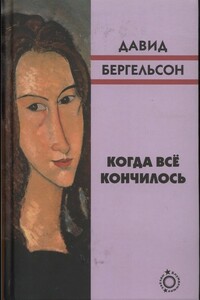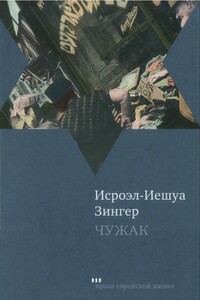Человек в талесе протрубил в шофар.
— Повторяйте за мной каждое слово, — велел раввин. — Я, Куне, сын Гени-Пеши…
— Я, Куне, сын Гени-Пеши, — повторил тот.
Но тут Нешавский ребе, который все это время сидел в талесе и тфилин, вдруг подскочил и закричал грозным голосом:
— Прекратите! Прекратите!
Наступила мертвая тишина. У краковского раввина слова застряли в горле.
Нешавский ребе встал — весь белый, тучный, как глыба льда.
— Я не допущу никаких ложных клятв в моем городе! — закричал он.
Раввины зашумели, заволновались. Ребе поднял руки, показывая, что хочет говорить. Стало тихо, как в могиле.
— Я, Мейлех, сын цадиков, — сказал он, — стоя в талесе и тфилин, заявляю, что подсудимый, сидящий здесь, перед нами — мой зять, реб Нохем. Когда он вернулся после пятнадцати лет отсутствия, я его не узнал. Он ушел безбородым юношей, а вернулся с бородой и пейсами. Но он привел доказательства. Он напомнил мне, о чем мы беседовали и что изучали. Кроме того, он напомнил, что мы загнули угол страницы в «Книге ангела Разиэля». Я открыл эту книгу, и все было так, как он сказал. Он также назвал и простые вещи — например, рассказал, что готовили в доме в день его ухода.
Внезапно ребе схватился за тфилин на лбу, вцепился в него обеими руками и громко воскликнул:
— Клянусь моим тфилин-шел-рош![182]
Тут он почувствовал слабость и сел на место.
В бесмедреше было тихо. Тишину прерывал лишь чей-то плач. Никто не знал, откуда он доносится.
Растерянный Куне-шамес снял талес и китл. Нешавская чаша весов переполнилась. Но как только участники суда уселись по местам и принялись допрашивать самого подсудимого, чаши весов снова стали прыгать вверх-вниз, и даже сами раввины не могли за ними уследить.
— Подсудимый, — промолвил краковский раввин, не зная, как к нему обращаться: Нохем или Йоше, — скажите суду, кто вы?
— Не знаю, — ответил тот, даже не подняв глаз от книги.
— Не знаете? — изумленно переспросил раввин. — Кто же может знать человека, как не он сам?
— Человек ничего не знает о себе самом, — ответил подсудимый.
— Я не понимаю, — сказал раввин.
— Я не понимаю, — повторили все раввины.
Нешавский ребе уставился на подсудимого.
— Реб Нохем, — сказал он, — я понимаю твои слова. Но перед судом следует говорить ясно. Ты должен сказать, что ты — Нохем.
— Я Нохем, — словно эхо, отозвался тот.
— Скажи, когда ты женился на моей дочери, — продолжал ребе.
— На Лаг ба-омер, в пять тысяч шестьсот двадцать девятом году[183], — ответил подсудимый отрешенным голосом.
Выпучив глаза, ребе посмотрел на собравшихся.
— Кто из вас, — спросил он, — был на свадьбе моей дочери с реб Нохемом?
— Я! Я был! Я! — послышались голоса.
Ребе уставился на подсудимого.
— Зять, помнишь ли ты толкование к Писанию, которое произнес на свадьбе?
— Да.
— Перескажи его суду.
Все тем же отрешенным, как будто загробным голосом он пересказал все толкование.
— Верно! — крикнул один из раввинов.
— Я помню! Я помню! — вмешался другой.
Реб Мейлех гневно посмотрел на всех.
— Бялогурский даен! — воскликнул он. — Был ли Йоше из Бялогуры ученым человеком или невеждой?
— Он читал одни только псалмы, — ответил даен.
— Люди! — крикнул ребе. — Реб Нохем — ученый, знаток каббалы.
— Ничего не понять, — сказал краковский раввин.
— Ничего не понять, — повторили все раввины.
Реб Мейлех поглубже уселся в кресло, как победитель.
Но вот реб Шахне-даен, несколько раз высморкавшись с трубным звуком, принялся допрашивать подсудимого, и тогда чаши весов снова начали прыгать.
— Йоше! — воскликнул даен, — скажи перед судом, что ты не Йоше-телок из Бялогуры.
Подсудимый молчал.
— Молчишь! — закричал реб Шахне. — Не отрицаешь! Значит, сознаешься?
Подсудимый молчал.
Реб Шахне вытянулся, став вдвое тоньше и выше.
— Господа, — сказал даен, — он точно так же молчал или говорил не по делу в Бялогуре, когда стоял перед судом. В городе, не про нас будь сказано, вспыхнула эпидемия. Дочь шамеса созналась, что он, не про нас будь сказано, согрешил с ней. Но сам он молчал так же, как сейчас. Не сознавался и не отрицал. Суд женил его на дочери шамеса, но он сбежал. Пусть он скажет мне в лицо, что это не так!