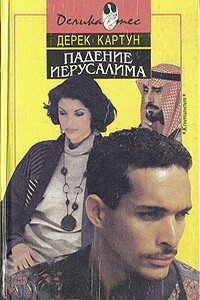— А есть гарантия, что Кальметт не пойдет выпить кружечку с приятелями из других секретных служб?
— Гарантии нет.
— Тогда остаются четверо.
— В любом случае, — сказал Алламбо, — ясно, что Лашом всего-навсего навещает какую-то женщину. Или мужчину.
— Это как раз и подозрительно — когда человек такого ранга ходит на площадь Бланш. Мог бы получить все, что надо, в местах поприличнее.
— У каждого свои сексуальные выверты, — сказал Алламбо.
— У некоторых, — возразил Баум, окинув его недовольным взглядом.
Тот год, когда он готовился стать священником, оставил след в его душе. Может быть, тогда ему не хватило убежденности в своем призвании, но моральным критериям он никогда не изменял. Для удовлетворения собственных склонностей ему вполне хватало скромной и уютной жены, но он прекрасно отдавал себе отчет в том, что даже в тихом и спокойном Версале он исключение, а отнюдь не правило. И тем не менее вполне обычные сексуальные пристрастия других людей удивляли его. Что уж такое замечательное творится на площади Бланш, раз мужчина предпочитает этот сомнительный квартал собственной спальне на авеню Виктор Гюго?
Ответ Бауму был прекрасно известен, но не нравился.
— Мне очень жаль, мадам, но не могу с вами согласиться, — сказал Баум, — Кошка и в самом деле хороша, но у неё есть ряд недостатков, на которые я не могу закрыть глаза. К примеру, недостаточно контрастный окрас туловища по отношению к лапам и хвосту.
Его коллега — судья в версальском клубе любителей кошек не сдавалась.
— Это самая красивая из балинезиек сил-пойнт, которых мне приходилось судить. Обратите внимание на великолепный желто-коричневый тон. А конечности — темно-коричневые.
— Недостаточно глубокие тона, — стоял на своем Баум, — И глаза несколько тусклы.
— Ничего подобного, живой синий цвет.
— Тусклые, я настаиваю. Нос также окрашен неярко, в коже не хватает пигмента.
Он сказал это резче, чем намеревался. Непохоже на него — к тому же балинезийская кошка и впрямь красива. Но не в таком он был настроении, чтобы прощать недостатки или мириться с тем, что считал чрезмерным энтузиазмом коллеги.
— Ставлю семь баллов — не больше — за окрас тела и один балл снижаю за глаза. Нос, так и быть, прощу, — добавил он.
Дама была слишком удивлена, чтобы спорить: месье Баум сегодня сам на себя не похож.
Обычно он не позволял неприятностям по службе влиять на свою деятельность по части судейства на кошачьих выставках. Но очень уж плохо обстояли дела на явочной квартире. Застыли на мертвой точке, никакого прогресса. И грозили стать ещё хуже, гораздо хуже — перед тем, как измениться к лучшему. Но, может, перемены к лучшему и вообще не предвидятся, — рассуждал он мрачно.
Перебежчик оказался крепким орешком. Унылый и необщительный, он с самого начала действовал Бауму на нервы, ежедневные беседы в душной неуютной комнате раздражали, оставляли ощущение бесполезности и безнадежности. Баум и сам чувствовал, что превращается в злого инквизитора, как будто этот человек был врагом, а не вновь обретенным союзником, который просто-напросто старается самоутвердиться.
Сколько раз на своих знаменитых уроках Баум твердил ученикам: не позволяйте втягивать себя в какие-либо отношения с перебежчиком, не должно быть ни расположения, ни неприязни, он для вас не святой и не грешник. Он перебежчик, только это вас и касается. Пусть он колотит свою жену, обижает детей, предает друзей, хамит вам — все это ничто по сравнению с тем фактом, что он знает, допустим, о военных приготовлениях русских на Ближнем Востоке нечто такое, чего мы пока не знаем. И единственная ваша задача установить, правду ли он говорит… А теперь он, Баум, собственных правил не соблюдает, потому, без сомнения, дело и зашло в тупик.
— Вам представлены доказательства в виде фотографий и я хочу знать точно, когда мы с женой отправимся в Соединенные Штаты, где будем жить, и каково будет наше материальное положение, — Котов говорил резким, сварливым тоном.
— Понимаю ваше нетерпение, — отвечал Баум устало, — Но и вы поймите: мы здесь, во Франции, не можем отпустить вас, пока не установим, достоверны или нет ваши сведения.