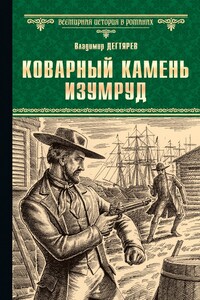Бусыга поддержал падающее тело, потом повёл сотника к его старому коню. Книжник сказал сзади жутким голосом:
— Ставь свечу на седло. Крепко ставь! — его тоже мутило от потери крови.
Сотник кое-как укрепил свечу на луке седла, Бусыга тут же плёткой стал отгонять коня на дорогу в степь. Верный конь противился, ржал, не хотел покидать хозяина.
— Весомая жертва, — сообщил людям Книжник и осел на землю.
Бусыга бросил коня и поволок Книжника к тюкам.
— Ну, говори тайну! — велел Проня.
Бекмырза, как бы очнувшийся от дурмана, вскочил на чужого коня, повернул его вслед за своим, обернулся и крикнул:
— А в стране Син, куда вы идёте, там уже знают, что у вас надо отобрать камень «Солнечного сына»!
Бусыга поднял русский боевой лук, навёл его так, что наконечник стрелы смотрел на три пальца выше головы бекмырзы. Натянул тетиву. Бекмырза оглянулся, по натягу лука понял, что стрела попадёт ему точно в шею.
— Урус шайтан! Кем кара бак![83] У-у-у! — из руки сотника вылетел свёрток, на лету развернулся, сверкнул серебром.
— Не стреляй. — Караван-баши положил руку на плечо Бусыги. — Он печать дарагара выбросил... Считай, всё нам отдал, и даже больше...
Сотник ухватил узду своего коня и так понесся на подъём из атбасарской котловины, что в сторону русского каравана полетели камни из-под копыт.
Бусыга пошёл, подобрал брошенное. Действительно, в его руке тускло отсверкивала печать дарагара, эмира бухарского, большая, восьмигранная, расписанная вязью арабских букв. Книжник поманил к себе Бусыгу. Взял печать левой рукой, повертел, прошептал:
— При случае она нас спасёт... Пока собираемся, пока вьючимся, нарежь мне ровных кусков ткани, да мои чернила подай. Я на те куски поставлю эту печать, а вы рассовывайте их по всем тюкам. Сгодится крепко... — Он опять начал опрокидываться от боли навзничь.
— Стой! Стой! — придержал Книжника Проня. — Зовут-то для Бога тебя как?
— Хоронить... меня... надумал?
Бусыга резнул Проне по затылку. Проня даже не обернулся, продолжал трясти Книжника:
— А, это... хоронить, оно ведь быстро, а помнить надо долго!
— Верно говоришь. Молодец. В миру, в сербских горах, меня звали... Бео Гургом. Золотым... волком... — Он всхрапнул и отвалился на тюки.
— Надо уходить отсюда! — устало сказал Караван-баши. — Сейчас же соберёмся и пойдём на север, по следам караванов эмира бухарского. Этим запутаем следы. А потом, когда дойдём до реки Иртыш, повернём на восток. Возле той реки и зимой можно пройти. Будем жечь костры, пусть верблюды и лошади возле них греются. Другого пути для нас уже нет... На юге нас встретят нукеры эмира, пограбят и зарежут. Что-то сильно дорогим стал янтарь в этом мире...
— Услышал бы про наши беды великий князь Иван Васильевич, пожалел бы нас, — сказал Проня, снимая шапку с бычьими рогами. — Мы теперь для него — главная забота и надежда... Мы теперь его единственная казна!
Про то, что русский караван, ушедший через Китай в Индию, есть его единственная казна, Иван Васильевич точно подумал — когда примчавшийся в Москву от Нижнего Новгорода гонец сообщил ему, что полки, шедшие на Казань, у Нижнего Новгорода встали: ростепель. Так пришла неминучая погибель.
А как всё хорошо начиналось! Древлянские волхвы, жившие в особом посаде при Неглинной реке, неделю гадали-гадали и нагадали великому князю Московскому, что с середины греческого месяца октября установятся лютые холода, реки покроются льдом и можно шагать на Казань...
Сто возов тележного обоза по первому льду успело переправиться через Волгу у Нижнего Новгорода в Бор, где с незапамятных времён собирали дань, казнили и миловали свой народ черемисские князья. Но там обоз государя с голодным воем встретили казанские татары.
Крымский хан по первому снегу честно привёл в Арзамас, где утвердилась его ставка, и пять тысяч самых проголодавшихся своих людей. Через неделю можно было бы и навалиться на Казань. А тут — ростепель!
Вятичи встали со своими двумя тысячами воинов на Вятских Полянах, за три перехода от Казани: дороги перекрыла мёрзлая грязь. Ростепель! Пять пушек утопло, половина пороха и два десятка подвод с ядрами.