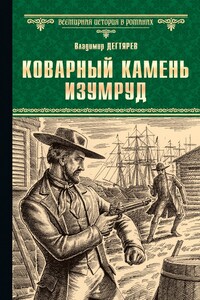— О! — вскинулся Иван Васильевич.
— А как ты хотел? Почитай все европейские государи так живут, не ты один бы стал на пансионе сидеть.
— На чём сидеть? — у Ивана Васильевича даже глаза ожили.
— На равных выплатах. На гарантированных. То есть вот как, например, немецкие князья нынче сидят. Мы их, понимаешь, в раздрае держим. У них на неметчине сейчас тридцать княжеств... Ну, ты видел, какой это народ: дай немцам соединиться, они каждому в Европе под глаз отметину поставят...
— Да, хорошо наливается у тебя под глазом... немецкая отметина... согласился Иван Васильевич.
— Посему немецким князьям сейчас можно тратить только строго учтённые нами деньги. Только на своё платье, на еду, на войско, на утверждённые нами постройки... А всё остальное мы забираем.
— Да? — удивился Иван Васильевич. — А скажи мне, мил человек, вот если в той неметчине неурожай случится или война, всё равно немецкие князья пансион получат?
— Обязательно! Правда, потом за те годы с ихнего народа мы дополнительные деньги собираем... За неурожай, за войну, за всё народ рассчитывается. Без этого никак. Деньги, они счёт любят!
— В этом есть правда, — согласился Иван Васильевич. — Эх, где ты раньше был, а, Захар Иванкович? Такой бы советник мне был нужен!
— Все и всегда про нас жалеют. Да только вот поздно нас обнаруживают.
Иван Васильевич, кажется, даже ожил:
— Погоди, погоди, мудрец. Не спеши горевать! Ты мне лучше ещё ответ дай. Вот, согласен я теперь, что надо было веру поменять. Вера католическая собрала бы Московское государство до величины той, что имелась до татар клятых. А можно было мне тогда Царём объявиться?
— Хоть императором! Только плати! Мы тебе все права на царский трон выправим. Есть у нас люди великого ума и способностей. Нашли бы бумаги, что ты есть, например, прямой потомок Августа Цезаря...
— Кого потомок?
— Августа Цезаря. Это нами такой бумажный, хех, шпынь создан. Все европейские государи как бы от него произошли. Правил, мол, тот Цезарь, Римской империей...
— Так не было же такой империи! — Иван Васильевич в возбуждении духа соскочил со стула. — Это же вы придумали от нашей, второй, Византийской империи. Вместо неё выдумали Римлянскую империю! Это же грешно!
— Придумали, а она живёт! И здравствует!
— Да, пожалуй, оно так. Здравствует... да... Токмо на бумаге.
— А бумага — она есть наипервейший документ жизни! — воспарил тут Схария.
Иван Васильевич потрогал бороду, промолчал. Видать по лицу, что злобой наливается.
— Что-то ужинать не несут, — забеспокоился вдруг Схария. — Как бы про нас тут не забыли в суете государственного переворота.
— Не забудут, принесут!
— А ты откуда знаешь? — вскинулся тут Схария, его глаза подозрительно оббежали лицо Ивана Васильевича.
— А оттуда. Я же эти тайные тюрьмы планировал и создавал. Мои они. И мой в них распорядок.
Схария зашёлся мелким смехом:
— Точно, твои... Твоя это тюрьма...
Дверь лязгнула. Какой-то книжник вошёл в дверь, неся деревянный поднос с пищей. На подносе стояли две тарелки. На одной лежало куриное мясо без косточек, кусок чёрного хлеба, стоял оловянный стакан с квасом. На второй тарелке лежало одно мочёное яблоко. Схария живо схватил тарелку с курицей и тут же начал жрать, чомкая губами.
— Это мне? — грозно показал на яблоко Иван Васильевич. — Это мне, холоп?!
— Не кричи, — посоветовал между жевками Схария. — Он глухой и немой. Бери и ешь. Может, в последний раз.
Книжник тайным именем Радагор грозно глянул на Ивана Васильевича, толчком сунул ему деревянную тарелку с яблоком. Иван Васильевич со вздохом взял яблоко, откусил, стал безрадостно жевать. Радагор тут же забрал пустые тарелки, стукнул подносом в дверь. Вышел. Пленники опять остались одни.
Снаружи, под окнами, заговорили, заругались. Потом к обоим окнам поднялись шесты, на торцах шестов горели толстые свечи в слюдяных фонарях.
— Вот и свет дали. — Схария зло показал пальцем на заоконные фонари. — Твоя это придумка — вот так, через окно, светить своим узникам?
— Мишка Шуйский. Его выверты, — устало сообщил Иван Васильевич. — Сюда, в горницу, свет давать нельзя. Узники пожгут горницу и дом пожгут... Да. Теперь точно, мерекаю я, что кончено моё правление. До утра мне дожить не дадут.