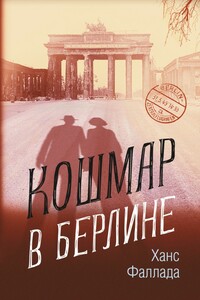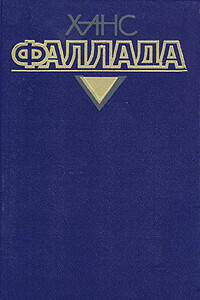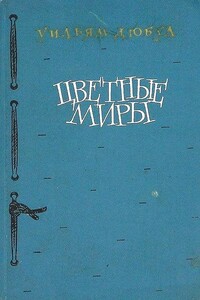Больше всего его злило, что я ношу стоячие крахмальные воротнички. В этом он был точно ребенок и не понимал, что я никогда не получу места в конторе, если на мне не будет крахмального воротничка. Послушать его, так воротничок носят лишь по воскресеньям, надевать же его в будни пристало лишь фату. Сам я, понятно, не умел крахмалить и гладить воротнички, а Вилли ни за что не хотел давать мне на это деньги. И я тащил их у него из кармана, когда он бывал пьян. Но стоило мне надеть свежий воротничок, как он догадывался обо всем, и тут начинался скандал.
Однажды, когда у меня не осталось ни одного чистого воротничка, я надел его единственный — воскресный. Я почему-то думал, что в этот день непременно найду работу. Работы я, правда, не нашел, но зато я и воротничок попали под дождь, а в тот вечер Вилли как раз собрался на свидание с одной девушкой и вдруг увидел, что воротничок его совершенно размок. Он пришел в неописуемую ярость, мы грубо наорали друг на друга, и Вилли вышвырнул меня из комнаты. Он вопил, что сыт по горло и чтобы я убирался вон. В конце концов меня приютил сапожный мастер; он уложил меня на диване, а сам лег с женой на кровати.
На следующее утро я, как обычно, варил для Вилли кофе, он не произносил ни слова, мы оба молчали. Уже уходя, он остановился в дверях и сказал, что мне все же стоит обратиться к священникам: у них на фабрике работает один парень, которого попы устроили. Потом он ушел. Это была его манера предлагать мир, да в конце концов я и не мог сердиться на него. Ведь и вправду нелегко кормить другого, да еще совершенно постороннего человека когда сам только-только начал зарабатывать на хлеб.
3
Адреса священников я раздобыл в редакции газеты. В городке выходило две газеты, большая и поменьше. В редакцию большой газеты я зашел всего лишь раз, сотрудники там ужасно важничали и прямо-таки облаивали всякого, кто обращался к ним с вопросом. В другой газете сотрудники были любезны, у них всегда находилось время для беседы, и они изъявляли полную готовность помочь вам советом. В городке было пять пасторов, и я целый день потратил только на то, чтобы обойти их и изложить свою просьбу. Все они выслушивали меня весьма дружелюбно, расспрашивали о том о сем, но, видимо, эти люди привыкли иметь дело с совсем иными горестями, чем мои. Поэтому они и старались как можно быстрее спровадить меня. Никто из них не мог мне предложить ничего подходящего.
Когда я рассказал Вилли о своей неудаче, он мне очень посочувствовал и, желая утешить меня, даже взял с собой в кино; преисполненный благодарности, я не надел воротничка. Вечером, ложась спать, Вилли посоветовал мне все же сходить завтра к католическому священнику: католики-де сейчас в силе. Я не стал возражать, мне и самому хотелось попытать счастья. И вот я достал нужный адрес. Секретарь редакции снова встретил меня очень любезно, я вынужден был рассказать ему обо всех пяти пасторах и обещать, что на следующий день дам полный отчет о моем визите к патеру.
В доме патера дверь мне открыла, должно быть, монахиня; ее белое лицо почти целиком было скрыто под большим чепцом; наконец явился и сам патер. Это был высокий, плотный человек, совершенно седой, наверняка из крестьян с побережья, там они все такие же молчаливые крепыши; говорил он тихо и неторопливо. Он долго слушал меня, задавал вопросы, и чувствовалось, что он понимает, каково приходится нашему брату, когда вот уже больше четырех лет безуспешно ищешь работы. Наконец он проронил:
— Я дам вам записку к управляющему кожевенной фабрики. Не обещаю, что записка поможет. Но все-таки я вам ее дам.
Он сел и стал писать, потом поднял голову и спросил:
— Вы нашего вероисповедания?
С Вилли мы договорились, что, если он спросит об этом, я совру, но, когда он взглянул на меня, я все же сказал правду. Он произнес лишь: «Хорошо», — и продолжал писать.
Я отправился с письмом на квартиру к доверенному, и мне велели прийти на следующий день. Когда я снова явился, служанка сунула мне тридцать пфеннигов и сказала, что приходить больше незачем. Точно прибитый, стоял я на лестничной площадке; услышав, что служанка снова начала возиться на кухне, я бросил тридцать пфеннигов в прорезь почтового ящика и, когда монеты звякнули, быстро сбежал вниз.