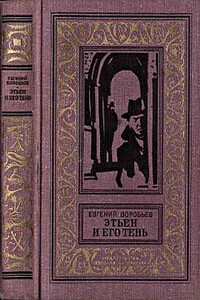— Все ворчишь! — с укором сказал Терновой. — А ты признайся: почему Вадима в клепальщики не вывел? Пожалел? Не захотел, чтобы молоток всю жизнь его в люльке тряс? Ты вот одного Вадима пожалел. А государство сразу о тысячах заботится.
— Так ведь я привык с молотком трястись, — как-то вдруг очень жалобно сказал Карпухин. — Я же другому не обучен. И Вадим рядом. И все приятели на домнах. Покалякать — и то теперь не с кем будет. С Василисой уже все переговорено.
— Жаль, Захар Захарыч, сварки ты не знаешь.
— На что она мне?
— Кажется, придумал я тебе работу. Только Василисе меня не выдавай. — Терновой уже смотрел на Карпухина смеющимися глазами.
— Например?
— А если тебя бригадиром рубщиков определить? Вырубать после сварки трещины там всякие, раковины, наплывы, шлаковые включения…
— Стар уже переучиваться, Иван Иваныч. Годы мои уклонные. У клепальщика век короткий.
— Человек не вол, в одной коже не стареет. Там тоже пневматика. Только вместо молотка твоего — зубило. Я вот еще с одним прорабом посоветуюсь. Попрошу, чтобы он над тобой шефство взял.
— Дожил! К кому бы это в подшефные, в ученики, определиться? И смех и грех! Может, еще придется сидеть на одних курсах с Катькой?!
— А знаешь, Захар Захарыч, кто придумал варить домны? Чей это проект?
— Не знаю. — Карпухин потеребил ус.
— Сдается мне, что это… — Терновой выдержал паузу. — Василиса придумала. Ее проект! Чтоб ты больше дома сидел…
— А что мне в Кандыбиной балке сидеть? С соседским петухом воевать? Или за квочками бегать, искать, где они яйца снесли? Нет, уж лучше я за сварщиками швы чинить буду…
На другой день, когда вышла газета, Карпухин поддразнил Василису:
— Слышишь, старая? Движение начинаю. Придумал Ванюшка Терновой. Чтобы я меньше дома с тобой сидел да больше по домнам двигался…
— А знаешь, Катюша? Я ведь тебя люблю.
Катя вздрогнула и ничего не ответила.
— Ты слышишь меня?
— Слышу, — сказала Катя очень тихо и по-прежнему не шевелясь.
Одно громкое слово, одно неосторожное движение могло разрушить тот чудесный мир, в котором сейчас Катя жила.
— Я тебя в самом деле люблю, — повторил Пасечник с ласковой настойчивостью. — Ты меня слышишь, Катюша?
— Слышу.
— Всякие слова говорил я. Говорил другим. А это слово… Этого слова боялся. Первый раз сказал. Сейчас вот… тебе.
Катя прижалась к Пасечнику и уткнулась лицом ему в плечо.
— Зачем же плакать?
— Я не плачу. Только слезы почему-то сами льются.
— Вот дурочка-то!
— Ну и пускай. Я умной не притворяюсь.
— Да у меня все плечо мокрое. Так и ревматизм нажить недолго.
Катя никак не отозвалась. Даже дыхания ее не было слышно.
— А я это слово… Я про любовь уже говорила, — произнесла Катя сквозь слезы. — Болтала про любовь. — Катя тяжело вздохнула. — Не знала, что это за слово. Выходит все-таки, что хуже я тебя, Коля.
— Ну зачем опять старое ворошить? Ты ведь и сама его не помнишь? Сердцем не помнишь, душой. Это только чтобы доказать мне, какая ты плохая.
— И доказывать долго не приходится, — снова вздохнула Катя.
— А я все равно не верю. Может, я вовсе и не полюбил бы тебя другую. Еще жениться, подумал бы, заставит. А зачем мне такую гирю вешать себе на шею?
— Может, пройдет время, ты и меня гирей обзовешь.
Катя еще сильнее уткнулась ему в плечо, и Пасечник почувствовал, что она плачет.
— Перестань, Катюша. Смотри на жизнь веселее.
— А я… я… я весела-а-ая, — всхлипывала Катя, она не могла успокоиться. — Ах, Коля! А ты мне еще руки целуешь!.. Кожа такая грубая.
— Разве это грубая?
— Клещи-то у меня тяжелые. Да еще раскалятся. Иногда даже через рукавичку жжет.
— И вовсе не грубая!
— Одно слово — нагревалыцица. — Катя вздохнула. — А ведь есть девушки — не мне чета. Барышни! Руки у них такие мягкие-мягкие, белые-белые. — Катя снова вздохнула. — Я бы тоже хотела ходить такой белоручкой. Писать на пишущей машинке…
— Подумаешь, невидаль! Весь день себе в уши стучат. Весь день сидят на одном месте. Как прикованные. Машинки стерегут. И не прогуляться!
— Или чертежи чертить. Вроде Тани Андриасовой.
— Подумаешь! Весь день за столом стоят. И не присядут.
— Или в театре представлять. Артисткой.