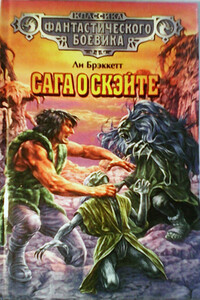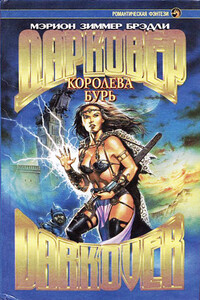Вот проблема: дети Казангапа сознательно выбрали свою стезю, воспользовались возможностью получить образование, им досталось куда меньше испытаний и боли, чем отцу, но их жизненные устои никак не назовешь твердыми.
В Сабитжане Едигея раздражает даже не никчемность его, не попытка казаться большим человеком при более чем скромной должности. Сабитжану решительно не свойственна трудная работа мысли. Услышанное и увиденное оседает в его сознании только затем, чтобы было чем поразить окружающих, особенно если они оторваны от новейших веяний. Для него ничего не стоит ниспровергнуть богов с древнего Олимпа: «Их и не было, этих богов. Это все мифы. Сказки. А наши боги — они живут рядом с нами, вот здесь, на космодроме, на нашей сарыозекской земле, чем мы и гордимся перед лицом всего мира». Слова, взятые напрокат. Есть в них и чудовищная — от заимствованности же — путаница грешного с праведным: «Вот ты, Едике, удивляешься, как они управляют по радио космическими кораблями. Это уже чепуха, пройденный этап! То аппаратура, машины действуют по программе. А наступит время, когда с помощью радио будут управлять людьми... всеми поголовно, от мала до велика» — вещает этот напыщенный недоучка.
Мысль, если она выношена и выстрадана, в каждом случае несет свою «непохожесть» Бездумная заемность всегда на одно лицо. Что-то печально роднит Сабитжана с Андреем из повести «Прощание с Матёрой», может, только Андрей чуть посдержаннее и потактичнее на земле своего рождения. А так тот же восторг перед всем новым, точнее, новомодным... И точно так же эта душевная непрочность, это легкое обрывание корней своего существования вызывают принципиальное неприятие.
Едигею страшно при одном предположении, что люди, опираясь на науку, могут получить над другими людьми неограниченную власть. Хорошо зная цену того, что названо в романе «ненавистью к личности в человеке», Едигей вынес из прожитых лет ясную, хотя и не всегда выраженную в словах убежденность, что личность — основа основ, что не потерять ее в себе, а по мере сил поднять и укрепить — главное, ради чего стоит преодолевать лишения и невзгоды, что только так и добывается глубокая радость жизни.
Ответственность перед будущим, как бы простодушно она ни выражалась Едигеем, может принадлежать только личности.
Герою романа мало узнать, что путь на родовое кладбище закрыт из-за нужд появившегося в степях космодрома. Это Сабитжан вполне удовлетворится общими соображениями о мировых вопросах и «государственной пользе», а Едигей отправится к ответственным людям, чтобы высказать свою точку зрения, чтобы наступающее новое не приносило даже малого ущерба тому, что есть, без чего оскудеет наша жизнь, разрушится ее целостность.
Все связано, утверждает роман, показывая, как с космодрома, помешавшего похоронной процессии, поднимаются ракеты, чтобы прекратить возникшие контакты землян с далекой планетой Лесная Грудь. Земля оказалась не готова к взаимодействию с лесногрудцами, столь озабоченными дальнейшим существованием всего живого во Вселенной,— кто знает, не закрыли ль земляне для себя одну из дорог в будущее... Это соединение проблем вселенских и проблем трудяги со степного разъезда достаточно наглядно, хотя и несколько умозрительно. А вот то, что без таких «лично ответственных», как Едигей, под угрозой окажется и связь времен, и связь поколений, что драгоценно и необходимо каждое звено всего живого, находится ли оно в огромном городе или в безжизненных песках, — эта мысль освещает совершившееся в романе духовное путешествие героя.
«Живой человек должен жить, видя перед собой цель и пути к этой цели»,— простое правило сформулировано Едигеем. Сколько нужно сил и терпения, чтобы буднично следовать такому правилу, чтобы оставаться верным ему всю жизнь.
Роман воздает должное герою за прочность сделанного им жизненного выбора. Он тем значительнее, тем привлекательнее, чем больше, труднее и целеустремленнее внимательно прослеженный в романе, последовавший за выбором Едигеев Путь...
Национальная, народная память воплотилась с редкой глубиной в нашей литературе о Великой Отечественной войне. «Военная проза» — явление большое, с подвижными, меняющимися признаками, так воспринимается оно читателем, так изучается критиками.