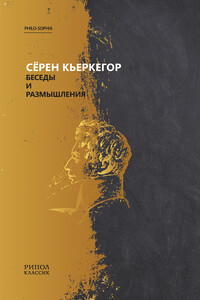С другой стороны, кантовская теория познания содержит в себе ряд ценных и прочных элементов, и их мне хотелось бы теперь вкратце отметить.
Прежде всего она внедряет ту важную истину, что познание – не собрание «впечатлений», а продукт самопроизвольной деятельности субъекта. Эмпиризм склонен к такому недоразумению: душа – первоначально лист чистой бумаги, на который вещи посредством чувств наносят свои знаки. Это воззрение, благодаря сенсуалистическим и эмпирическим теориям, влачит свое существование вплоть до настоящего времени, начинаясь еще с сенсуалистического материализма древних, предполагавшего, что с поверхности вещей отделяется, подобно кожице, тонкое телесное изображеньице и проникает в чувствилище.
Полная неудовлетворительность такого воззрения, делающего субъект пассивным приемником для впечатлений, превосходно выставляется на свет кантовской теорией. В нашем познании нет решительно ничего, что входило бы таким образом в душу извне. Уже простое ощущение: свет, звук, вкус – не напечатлевается ей извне, а производится ею при встрече с окружающей средой как нечто такое, что вообще существует лишь в ней, как ее собственный продукт. Это предполагается Кантом, как само собой понятное; напротив, он подчеркивает, что и всеобщие формы чувственно-созерцательного мира, пространство и время – порядки самопроизвольно производимые субъектом, а вовсе не отпечаток существующего по себе пустого пространства или пустого времени. Их действительность состоит только в живой функции субъекта, обнимающей множественность мементов ощущения в единство созерцания.
Мы не можем не думать, что сущая сама в себе действительность, к которой субъект стоит в первоначальном и неопределимом далее отношении, становится как-нибудь поводом к этого рода представлению ее; мы можем приписывать ей «умопостигаемые» порядки, находящиеся в каком-нибудь соответствии с формами нашего созерцания; но сами эти формы созерцания суть не отпечатки в субъекте, а его создания. А этим дается и то, что и сами предметы внешнего мира есть создания субъекта: тела и их движения – это явления.
Еще заметнее справедливость этого в применении к понятиям. Понятие не есть накопление впечатлений, общий образ, в котором общие черты усилены, а отклоняющиеся затушеваны, подобно тому как такие образы приготовляются в последнее время на фотографической пластинке, которую несколько раз ставят перед сходными предметами и таким образом механически воспроизводят на ней тип, например – врача, духовного и т. п. Понятие существует лишь как живая функция обнимания разнообразия созерцаний. В применении к более общим понятиям дело вполне очевидно; если можно еще обманываться, например, насчет того, будто понятие яблока пассивно сохраняется в памяти, подобно упомянутым фотографиям-типам, хотя, однако, и здесь уже могла бы представиться трудность в воспроизведении «общего образа» больших и малых, красных и зеленых, круглых и угловатых яблок, – то уже абсолютно ясна невозможность общего образа, фрукта вообще, в котором одинаковым образом были бы представлены и яблоки, и вишни, и орехи, и фиги и т. д. А тем более общий образ плода, или тела, или вещи вообще, или общий образ цвета, формы, величины, быстроты, направления, единства, множественности, действительности, возможности, отрицания! Ясно, что понятия этого рода не могут возникнуть путем какого-нибудь рода фотографических операций; они вообще существуют не в форме созерцательных образов, а лишь в деятельности обнимания, оперирования со множественностью возможных созерцаний, причем слово или какой-нибудь другой знак служит в известном смысле заместителем представления. Правда, без созерцательных представлений не существовало бы и этих понятий, и значение их заключается только в том, что существуют созерцательные представления, которые мы обнимаем понятиями или которыми овладеваем с их помощью.
Мы скажем, следовательно: всякое познание есть деятельность субъекта и, как таковая, оно есть a priori. Правда, – a priori не в том смысле, чтобы оно было внутренним явлением, стоящим вне всяких отношений; как всякая деятельность, так и деятельность ума обусловливается природой тех вещей, на которые она направляется. Ощущения – проявления деятельности субъекта, к которым его вызывает окружающая среда; раздражение соопределяет качество ощущения; ощущение же, в свою очередь, делается раздражением, вызывающим субъект к произведению созерцательного представления, а последнее – раздражением, вызывающим к произведению системы понятий. Можно, следовательно, также сказать: всякое познание есть a posteriori, это относится как к примитивнейшему ощущению, так и к высшим категориям. Это в сущности имеет в виду и Кант; нет действительного познания, в котором не было бы обоих элементов – априорного и апостериорного: созерцания без понятий слепы, понятия без созерцаний пусты. Но только та проблема, спасти для известных положений – «синтетических основоположений чистого рассудка» – всеобщность и необходимость одновременно с их предметным значением, заставила его удержать взгляд, что известным элементам присуща чистая и абсолютная априорность.