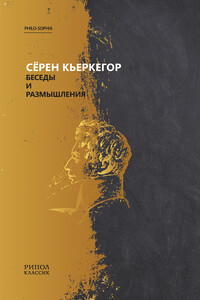Если спросить об условиях этого развития теоретических способностей в человеке, то их придется, конечно, искать во всей его психофизической организации. В высшей степени значительную роль играла при этом, без сомнения, рука. Органы чувств вряд ли обнаруживают какое-нибудь преимущество человека, – напротив того, в руке он обладает поразительным орудием исследования. Она разделяет и соединяет вещи и свойства или состояния в действительности. Она дает и отнимает у тела форму, положение, движение, цвет. Как беспомощно стоят, напротив того, перед вещами четвероногие, обладающие только одним орудием схватывания – зубами. Неудивительно, что вещи остаются для их рассудка такими немыми и, по-видимому, говорят лишь одному их желудку. Обратите, напротив, внимание на то, как уже малый ребенок экспериментирует рукой над вещами, поворачивает их так и сяк, осматривает, ставит их и опрокидывает, разлагает и складывает. Эти практические анализ и синтез, производимые над вещами рукой, повторяются затем в анализе и синтезе, производимых рассудком над созерцательными представлениями. Ручным инструментам соответствуют понятия рассудка. Отличительным признаком человека справедливо были сочтены следующие два обстоятельства: что он производит орудия и что он мыслит в понятиях; это действительно стоит в теснейшей связи. Активное отношение человека к созерцательным представлениям, пассивно пропускаемым мимо себя животным, основывается в своей первой возможности на обладании рукой, которая всегда готова вмешаться, экспериментируя, в ход явлений. Эксперимент естествоиспытателя есть лишь дальнейшее развитие примитивного экспериментирования детской руки. И кто, будучи ребенком, не освоился с вещами этим способом, тот не познакомится уже с ними во всю свою жизнь, если бы даже он собрал в своей голове всю книжную премудрость мира.
Возвращаясь теперь к нашему рассмотрению, мы, следовательно, скажем: с точки зрения теории развития нигде не может быть речи об абсолютной априорности известных функций. Пространство, время, категории, так же как и глаза, уши, мозг, – выработались в ходе развития. Они, как и эти последние, принадлежат теперь к наследственному достоянию индивидуума, по крайней мере в известном смысле; равно как и вся передаваемая с языком система понятий должна быть причисляема к его историческому наследию; индивидуум находится во владении этим наследством еще задолго перед тем, как начинает думать сам; последнее образует как бы априорную прибавку к тому познанию, которое он приобретает в дальнейшем ходе своей жизни. Ведь нет ни малейшего сомнения, что этим a priori всюду определяется его миросозерцание; все, что бы ни представлялось его пониманию, апперципируется им при помощи унаследованных форм созерцания и мышления. С другой стороны, мы не будем думать, что это духовное достояние априорно в том смысле, что составляет собой природу ума, в качестве системы форм, абсолютно неподвижных и не стоящих ни в каком отношении к действительности. Мы скорее скажем: подобно тому как все органы образовались в соприкосновении живого существа с окружающей средой, так образовался и самый важный и самый тонкий орган – ум. Подобно тому как плавники могли возникнуть лишь в воде и в постоянном с ней соприкосновении, как уши могли возникнуть лишь в среде, распространяющей звуковые волны, так и внутренние органы нашего созерцания и нашего мышления могли возникнуть лишь в той среде, как ее представляет собой наш мир. Конечно, мы не можем показать здесь такой же приспособленности, как у плавников, мы не можем, выступая из нашего мира представлений, сравнивать его с действительным миром; но если мы вообще допускаем, что субъект и его ум развивались в существующем мире, то мы не можем не думать, что мир есть содействующий фактор при образовании ума.
Итак, заключение было бы, следовательно, такое: Кант не достиг своей первой и настоящей цели, на которую было направлено доказательство эстетики и аналитики: ему не удалось доказать возможности познания фактов из «чистого разума», а с этим вместе и возможности строго-всеобщих и необходимых суждений о фактах. В этом пункте эмпиризм Юма сохраняет перед ним свое право.