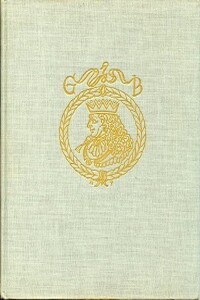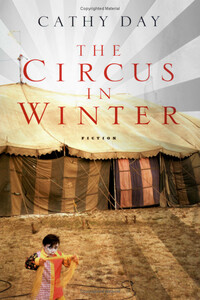В ту ночь, сидя у костра, дядя Данила рассказал Глебу историю одной встречи.
— Ну, а пятый Иван, может, вовсе и не Иван был, а попал в нашу степь и сделался им. Звали его Иштван, а мы кликали Иштваней. Пленный, работал он на николаевском кожевенном заводе. Много пленных в ту пору расселили по всей России: у заводчиков, мукомолов, в мастерских. После Октября каждый по-своему искал свою судьбу: Иштван и Петька-Чех пришли к Чапаеву. Переговоры вел Петька-Чех. Говорил похоже на русский, только некоторые слова перекувыркивал или тянул до невозможности, почище наших волжан.
Иштваня заявил свое:
— Говорю, мол, русским языком плохо, а пулеметом хорошо.
И право, после боя дружки только и могли ему сказать:
— Ишь, Ваня, всыпал ты казаре по первое число!
Как-то в штабе Плясункова, командира первого Николаевского полка, Иштва приметил Зельму. Маленькая, худощавенькая, она доставала Иштве до локтя.
Когда он хвастался ей про пулемет «максим», она ему только и ответила:
— У меня своя машина, она работает быстрее.
Восемнадцатилетняя латышка из рижских беженцев была полковой машинисткой, и с ее «ундервуда» выходили наши полковые приказы и много нужной тогда канители. Промеж бойцов ее машинку прозвали Тундрой-выдрой. Уж очень тарахтел «ундервуд» и был тяжелехонький.
Сколько раз в отступлении или когда мы наступали, Зельма заработается, не успевает уехать со штабом и бредет со своей махиной пешком.
Тянет машинку на себе, бережет, чтоб какая буковка в ней не похилилась. Иштваня очень жалел Зельму и не раз просил у нее разрешения поносить машинку, но Зельма была строгая и не позволяла. Она и командирам не давала потачки. Бывало, кто захочет попечатать, протянет к машинке руку — она сразу цоп по рукам. Ее боялись.
Как-то мы отступали. Она идет прямо по дороге, месит ногами грязь, лицо мокрое от пота и дождя, к животу прижимает свою Тундру-выдру, а мимо на лошади Иштва — видный, рыжий. Что плечи вразворот, что посадка — все в нем любо-дорого. И шапка на нем, как верх колокольни, всем нам далеко видна.
Поравнялся Иштва с Зельмой, наклонился к ней:
— Подвезу вас.
— Что пожалуйста? — Это у нее такая манера была, когда не хотела поддерживать разговор.
— Тороплюсь я, — горячится Иштва, — у меня задание спешное. Садитесь передо мной.
Она его как резанет:
— Бедри[4] Иштван, не мешайте идти.
Он с другого бока заезжает, наклоняется к ней.
— Не могу вас долго уговаривать.
Она ни в какую и перешла на свой, латышский:
— Ко лудзу?[5]
А мимо всё так и посвистывает — пули секут воздух.
Иштваня, вижу, нервничает. Я их обгоняю.
— Не дури, — говорю, — Зельма, езжай с парнем.
А она мне, будто Иштву и не знает:
— А «ундервуд» он тоже возьмет?
Иштва ей:
— Никого, кроме вас. Пусть ваш Унтервуд сам за вами бежит.
Она отвернулась от него и пытается уйти. Вижу, губы у нее от обиды дрожат.
Сунулся я было Иштве объяснить, а он и не слушает.
— Пусть, — говорит, — Иштван не обидит женщину, даже если она предпочитает ему другого.
Выхватывает у нее из рук машинку, кладет в грязь, Зельму сажает перед собой. Но Зельма ругнулась по-латышски, наклонилась с лошади и хвать за шиворот свой «ундервуд». Иштва хлестанул лошадь, и мы слышим — Зельма кричит:
— Держи «ундервуд», или я свалю тебя вместе с лошадкой!
— Больше никого не посажу! — кричит рыжий кавалер. — Хватит мне твоего барахла, еще захотела и парня туда же.
Мы смеялись, а их и след простыл.
Прошел месяц, другой. Мы иногда дразнили Иштваню. Ведь это я тебе, Глеб, разговор передаю приблизительно, а они язык обломали, пока друг дружку поняли.
Как-то заглядываю в избу, где Зельма при штабе жила, и вижу: что за чудеса? Она на «ундервуде» кого-то обучает. Удивился я: кто же в такое доверие к ней вошел? Сунул потихоньку нос в дверь, а это она Иштваню русским буквам учит и приговаривает:
— Теперь подберем на машинке слово «Будапешт».